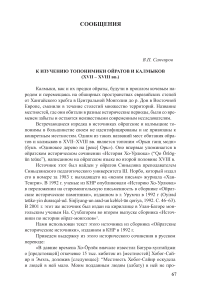К изучению топонимики ойратов и калмыков (XVII - XVIII вв.)
Автор: Санчиров Владимир Петрович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 29, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые рассматривается топоним "Орын ганц модн" ("Одинокое дерево на [реке] Орь"). Статья основана на ойратском историческом сочинении "История Хо-Орлюка", архивных документов и произведениях украинского поэта Т.Г. Шевченко. Делается вывод о том, что это было название местности на юге Уральских гор, где происходили значительные события в истории ойратов и калмыков в XVII-XVIII вв.
Ойраты, калмыки, река орь, уральские горы, топоним, т.г. шевченко
Короткий адрес: https://sciup.org/14913600
IDR: 14913600
Текст краткого сообщения К изучению топонимики ойратов и калмыков (XVII - XVIII вв.)
Калмыки, как и их предки ойраты, будучи в прошлом кочевым народом и перемещаясь на обширных пространствах евразийских степей от Хангайского хребта в Центральной Монголии до р. Дон в Восточной Европе, сменили в течение столетий множество территорий. Название местностей, где они обитали в разные исторические периоды, были со временем забыты и остаются неизвестными современным исследователям.
Встречающиеся изредка в источниках ойратские и калмыцкие топонимы в большинстве своем не идентифицированы и не привязаны к конкретным местностям. Одним из таких названий мест обитания ойра-тов и калмыков в XVII–XVIII вв. является топоним «Орын ганц модн» (букв. «Одинокое дерево на [реке] Орь»). Оно впервые упоминается в ойратском историческом сочинении «История Хо-Урлюка» (“Qо Örlög-ün teüкe”), написанном на ойратском языке во второй половине XVIII в.
Источник этот был найден у ойратов Синьцзяна преподавателем Синьцзянского педагогического университета Ш. Норбо, который издал его в номере за 1983 г. выходящего на «ясном письме» журнала «Хан-Тенгри». В 1992 г. ученые из КНР опубликовали «Историю Хо-Урлюка» в переложении на старомонгольскую письменность в сборнике «Ойрат-ские исторические памятники», изданном в г. Урумчи в 1992 г (Oyirad teüke-yin durasqal-ud. Sinĵiyang-un arad-un keblel-ün qoriya, 1992. С. 46–63). В 2001 г. этот же источник был издан на кириллице в Улан-Баторе монгольским ученым На. Сухбатором во втором выпуске сборника «Источники по истории ойрат-монголов»1.
Нами использован текст этого источника из сборника «Ойратские исторические источники», изданном в КНР в 1992 г.
Приведем выдержку из этого исторического сочинения в русском переводе:
«В давние времена Хо-Öрлöк вначале известил Батура-хунтайджи о [предстоящей] откочевке 15 тыс. кибиток из [местностей] Хобог-Сай-ир и Эмэль, доложив [следующее]: “Местность Хобог-Сайир оскудела и людей в ней мало. Моим подданным людям (албату) в ней не про- кормиться, если они не найдут себе пропитания, сея зерно. Дам-ка я им окрепнуть, перекочевав в [местность] Орын ганц модн, находящуюся к северу от [кочевий] хойтов, и наказав им сеять там зерно”. Остальные все ойраты прослышали о том, что [людей Хо-Öрлöка] из [местностей] Хобог-Сайир и Эмэль переселили в [местность] Орын ганц модн, где те, занимаясь хлебопашеством, всячески благоденствуют в мире и согласии в то время, как у [других] князей их люди, которые голодали, умерли. Все они [тогда] бежали и присоединились к Хо-Öрлöку. Он [их] принимал у себя, и оттого, что он сделал их своими албату [Крепостными. – В.С.], то [количество подвластных ему людей] за несколько лет увеличилось до 40 с лишним тысяч семей. Они стали кочевать дальше и вступили на территорию между реками Волгой (Иджил) и Уралом (Зай).
После того, как к прикочевавшим [сюда] со своими кибитками и женами 40 тысячам семей затем присоединились также вместе со своими воинами князья [других] четырех подразделений ойратов: хошутов, джунгаров, хойтов и дэрбэтов, численность волжских торгутов-ойратов сильно увеличилась. Рассказывали, что находившиеся здесь в бегах ой-раты и убежавший скот стали использовать [местность] Орын ганц модн как летние пастбища» (Oyirad teüke-yin durasqal-ud. С. 38–39).
Известно, что экстенсивное скотоводческое хозяйство кочевников-ойратов постоянно терпело большой урон при наступлении неблагоприятных погодных условий. Такие чрезвычайные обстоятельства, как дзуты (гололед зимой), бескормицы из-за засух в летнюю пору, эпизоотии и др. приводили к массовому падежу скота, что могло побудить обнищавших и терпящих голод скотоводов заняться земледелием. Именно о подобном случае вынужденного перехода торгутов к занятию земледелием идет речь в источнике, хотя не указано, когда именно произошло это событие. Упоминание имен торгутского тайши Хо-Öрлöка (известного в русских документах как Хо-Урлюк) и джунгарского правителя Батура-хунтайд-жи, позволяет датировать описанное событие 30-ми гг. XVII в., то есть временем, когда кочевое объединение торгутов под предводительством Хо-Урлюка перекочевало из степей Западной Сибири в Южное Приуралье. Батур-хунтайджи, которого Хо-Урлюк известил о своей откочевке и получил на это его согласие, стал правителем Джунгарского ханства и главой Ойратского Союза в 1635 г. после смерти своего отца тайши Хара-Хулы.
Издатели «Истории Хо-Урлюка» в сборнике «Ойратские исторические памятники» не смогли распознать гидроним Орь (от казах. ор – «ров, канава») в названии местности Орын ганц модн. В комментариях высказано предположение о том, что это была «пастбищная территория по течению р. Тобол западнее среднего течения р. Иртыш, к югу от места впадения Тобола в Иртыш» (Oyirad teüke-yin durasqal-ud. С. 49). По их 68
мнению, «начиная с откочевки на запад Хо-Öрлöка и вплоть до гибели Джунгарского ханства торгуты, когда двигались прямой дорогой от Волги к оз. Балхаш, то в большинстве случаев из-за обилия [на их пути] песчаных барханов и больших камней прибывали с Волги [сначала] в местность Орын ганц модн, а затем поднимались вверх по Иртышу и достигали своей ойратской родины» (Oyirad teüke-yin durasqal-ud. С. 49).
На самом же деле местность Орын ганц модн находилась на р. Орь, в чем нас убеждают данные русских источников XVII–XVIII вв. Причем, судя по этим данным, это было значимое место для кочевавших здесь калмыков. В 40-х гг. XVII в. в данной местности кочевали подвластные люди торгутского тайши Елдена (сына Хо-Урлюка и брата старшего тайши Дайчина). Сюда в 1645 г. отправилась русская миссия Алферия Кудрявцева, посланного царскими властями в калмыцкие улусы из Уфы, чтобы уговорить торгутских тайшей принять русское подданство2. Переговоры с ними велись, как указывает М.Л. Кичиков, на реке Орь3. В русских документах того времени появляется и название интересующей нас местности. Вот что пишет об этом, основываясь на русских архивных документах, в своей готовящейся к печати монографии В.Т. Тепкеев (цитирую с его любезного согласия): «Посольство А. Кудрявцева в количестве 50 человек выехало из Уфы 21 марта 1645 г. и, прибыв 21 апреля 1645 г. в калмыцкие кочевья, побывало по очереди в улусах торгутских тайшей Лузана, Нима-Церена и Елдена. «Все это время тайши активно консультировались между собой, а 17 июня на реке Орь в урочище Одного дерева (в улусе Елдена ) [Подчеркнуто мною. – В.С. ] у них произошел общий съезд, где присутствовали все торгутские тайши, ногайские и татарские мирзы (РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. 1645 г. Д. 2. Л. 266–267; 1646 г. Д. 1. Л. 181–182)».
Это урочище с одиноко растущим деревом как сакральной точкой пространства, где живет человек, очевидно, служило местом сбора калмыков и совершения определенных религиозных обрядов. Почитание деревьев издревле было свойственно многим народам, что объясняется сакрализацией ими доминирующих объектов ландшафта, будь это гора, либо какая-нибудь другая возвышенность, или дерево. В данном случае – это одинокое высокое дерево, выросшее на огромном степном пространстве. Оно, по-видимому, было включено обитателями этих мест в разряд особо почитаемых объектов ландшафта. В качестве такового оно сохранялось в их памяти долгие годы даже тогда, когда калмыки откочевали отсюда на запад, в пределы Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья. Во всяком случае, урочище Орын ганц модн упоминается в русских документах позднее, уже во второй половине XVIII в. при описании событий, предшествовавших уходу калмыков в 1771 г. в Китай. В томе I «Истории Калмыкии с древнейших времен до наших дней» сообщается 69
следующее: «Первое детальное сведение о совещаниях заговорщиков и о предмете обсуждений содержалось в письме Замьяна Н.А. Бекетову [Астраханский губернатор. – В.С .] от 28 февраля 1767 г. Автор письма сообщал, что посланный в Санкт-Петербург Дондук-Джамцо дал знать заговорщикам о том, что якобы у России с Китаем война и будто бы китайское войско уже подошло к р. Ори, “где есть одно древо” [Подчеркнуто мною. – В.С .]. Нойоны Цебек-Доржи, Бамбар, Шеаренг, Яндык и Басурман-Тайджи и несколько зайсангов якобы решили получить через специально посланного в Оренбург разведчика точные сведения, и в случае, если китайское войско действительно находится так близко, то со всеми улусами идти с ним на соединение (НАРК. Ф. И-36. Д. 418. Л. 2; Д. 415. Л. 38-40)»4.
К сожалению, содержащиеся в ойратском источнике сведения не позволяют более точно установить, где находилась данная местность, что за дерево росло там, и какие обряды там совершались. Однако можно попытаться это сделать, основываясь на религиозно-мифологических представлениях других тюрко-монгольских народов Центральной Азии. Предки калмыков, уйдя из этого региона, тем не менее долгое время сохраняли центральноазиатские традиции своей культуры, в том числе ритуально-магический пласт, связанный с исполнением определенных обрядов перед деревом, как культовым объектом. Этнологи отмечают, что «как в любой культуре, дерево в мировоззрении монгольских народов является доминантным символом, многозначным и полифункци-ональным, определяющим формальную и содержательную организацию вселенского пространства»5. Священное дерево воспринималось ими как вместилище особой силы, влияющей на жизнь человека. У калмыков, как пишет исследователь Э.П. Бакаева, воплощением такой силы считался Белый старец, хозяин местности, где росло такое дерево (калм. һазр-усна Цаһан Авһ, букв. «Белый старец земли-воды»), покровитель скотоводства и растениеводства, от которого зависело получение большого приплода и урожая6. К нему в дни празднования летнего праздника Үрс сар в середине первого летнего месяца обращались калмыки «с просьбами о даровании плодородия, дождей, пышной растительности, способствующей развитию скотоводства», совершая жертвоприношения у священного дерева. Кроме того, из русских источников известно, что в местности Орын ганц модн с одиноко растущим деревом собирались калмыцкие правители для обсуждения и принятия важных и судьбоносных решений. Вне всякого сомнения, для них это была заповедная территория, а такие мероприятия должны были обязательно сопровождаться поклонением священному дереву с совершением определенных религиозных обрядов, восходивших к архаическому мировоззрению из добуддийского прошлого ойратов и калмыков.
Хотя ни о чем подобном не говорится в упомянутых выше источниках, можно гипотетически предположить нечто подобное, основываясь на дошедшем до нас описании аналогичных обрядов у казахов, занявших со второй половины XVII в. данную территорию после ухода отсюда калмыков. Они обладали похожими религиозно-мифологическими представлениями, сфокусированными вокруг определенного доминирующего элемента культового объекта. Понятно, что сакрализация единственного дерева, растущего на огромном пустынном пространстве зауральской степи, превращение его в особо почитаемое святилище могли иметь место и в прошлом, еще до прихода калмыков, и после их ухода. История таких святилищ обычно насчитывала многие десятилетия и даже века.
Так произошло и с одиноким деревом на реке Орь. Оно сделалось особо почитаемым объектом ландшафта и у поселившихся в этих местах казахов Младшего жуза, которые, возможно, унаследовали культ данного конкретного дерева у прежних обитателей-калмыков. Известно, что в «кочевье по Орь-реке» пребывал незадолго до своей гибели хан Младшего жуза Абулхаир (1680–1748), бывший с 1719 г. старшим ханом казахов. Отсюда он вел переписку с высокопоставленным русским дипломатом и администратором А.И. Тевкелевым7. К 40-м гг. XIX в. территория Южного Приуралья окончательно вошла в состав Российской империи.
Благодаря свидетельству очевидца, можно точно установить местонахождение этого дерева, также получившего у казахов название Джан-гыз-агач (букв. «одинокое дерево»). Оно росло в местности между реками Уймула (Курпе) и Карабутак в бассейне р. Орь еще в середине XIX в. Его видел украинский поэт-демократ Т.Г. Шевченко, который провел в ссылке в Оренбургской губернии (частично в Оренбурге) целых 10 лет. Он проезжал через р. Орь в мае 1847 г. во время девятого перехода транспорта из Орской крепости в недавно созданное Раимское укрепление. В своей повести «Близнецы»8 поэт так описывает встречу со «святым деревом»: «...Орь осталася вправо, степь принимала по-прежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода, я заметил, люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком. И все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкою на темную точку: «Мана аулья агач» (здесь святое дерево). Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную толпу, с удивлением и даже (так мне казалось) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешано набожными киргизами 71
кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма [Пучок. – В.С .] лошадиных волос, и самая богатая жертва – это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на все это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою. А я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил: “прощай” и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом»9.
Воспоминания, навеянные посещением местности с одиноко растущим деревом (поэт называет его «джангысагач»), легли затем в основу первых набросков и самой акварели «Джангысагач»10 и стихотворения-поэмы Шевченко «У бога за дверью лежала секира...»11, написанного в 1846 г. в Орской крепости. Оно представляет собой поэтическую обработку казахской легенды. В заключительной части своего стихотворения поэт поместил поэтическое описание «священного дерева»:
Одно в пустыне при долине
На краю дороги
Встало дерево большое
Покинуто богом;
Обойденное секирой,
Огнем непалимо,
О годах давно минувших
Шепчется с долиной.
И кайсаки почитают
Дерево святое,
На равнину приезжают,
Под листвой густою
Жертвы дереву приносят,
Просят, умоляют,
Чтобы поросли пустило
В их убогом крае.
Из рассказа Т.Г. Шевченко мы узнаем, что «одинокое дерево на р. Орь» было тополем. Тополь наряду с сандалом считался у калмыков священным и магическим деревом, олицетворением счастья и благоде-нствия12. Благодаря его описанию мы можем точно установить местонахождение дерева и ландшафт местности, где разворачивались знаменательные и судьбоносные события истории калмыков.
Список литературы К изучению топонимики ойратов и калмыков (XVII - XVIII вв.)
- Ойрад монголын түүхэнд холбогдох сурвалҗ бичгүүд -II. Улаанбаатар, 2001. С. 155-166).
- Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов. Элиста, 1966. С. 87-89.
- История Калмыкии с древнейших времен до наших дней. Т. I. Элиста, 2009. С. 425.
- Пространство в традиционной культуре монгольских народов. М., 2008. С. 149.
- Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. Элиста, 2003. С. 110.
- История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. Т. III. Журналы и служебные записки дипломата А.И. Тевкелева по истории и этнографии Казахстана (1731-1759 гг.). Алматы, 2005. С. 266, 267.
- Шевченко Т. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 4. Киев, 1949. С. 7-114.
- Шевченко Т. Избранные произведения. Л., 1952. С. 130-132.
- Манджикова Б.Б. Растительный мир «Джангара»//Исследователь монгольских языков (К юбилею Б.Х. Тодаевой). Элиста, 2005. С. 111.