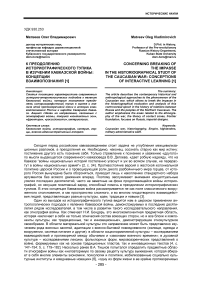К преодолению историографического тупика в изучении кавказской войны: концепции взаимопознания
Автор: Матвеев Олег Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена характеристике современных историко-антропологических подходов к явлению Кавказской войны, которые позволяют преодолеть историографический тупик в оценке и анализе этой противоречивой эпохи в истории взаимоотношений России и народов Северного Кавказа. Акцент сделан на направления, связанные с этнографией войны, теорией «контактных зон», «фронтира», «российскости», империологии.
Кавказская война, историография, империя, горцы, военно-административный аппарат
Короткий адрес: https://sciup.org/14934948
IDR: 14934948 | УДК: 930.253
Текст научной статьи К преодолению историографического тупика в изучении кавказской войны: концепции взаимопознания
Сегодня перед российским кавказоведением стоит задача не углубления межцивилизационных разломов, а преодоления их. Необходимо, наконец, осознать старую как мир истину: постижение другого есть познание себя. Только стремление к познанию и уважению «другого» по мысли выдающегося современного кавказоведа В.В. Дегоева, «дает робкую надежду, что на Кавказе “войны национальных историй постепенно угаснут и уж во всяком случае, не перерастут в войны национальных армий”» [2, с. 34]. Противостояние версий о жестокой колониальной политике царской России и о провоцирующей роли дикого разбойничьего мира горцев, от которого Россия вынуждена была обороняться, приводит лишь к накоплению стандартного набора аргументов без всякого движения вперед. Поэтому заслуживают внимания концептуальные усилия последних десятилетий, часто не заметные на фоне продолжающейся войны историографий, но несущие позитивный заряд, способный помочь в преодолении историографических тупиков. В этих концепция Кавказская война рассматривается не как поле классического вооруженного столкновения, а как пространство сложного, и во многом плодотворного взаимодействия людей, представляющих разные культуры, идеи, традиции и навыки [3].
Один из выходов из историографического тупика видится нам в широком применении антропологических подходов к явлению Кавказской войны, демонстрируемых в последние десятилетия рядом исследователей, в том числе в развитии такого исследовательского направления, как этнография войны. Как отмечает Н.И. Бондарь, это многокомпонентная предметная область, которая «включает в себя не только этнический состав воюющих сторон, но и все блоки и компоненты культуры, как традиционные, так и инновационные», демонстрирующие этнокультурное своеобразие. В области материальной культуры это направление может быть представлено изучением рода военных занятий, адаптации к военно-бытовой повседневности (жилище, одежда и вооружении, система питания и другое); в области соционормативной культуры – исследованием взаимодействий и противоречий между обычаями и «законами военного времени»; в духовной культуре – исследованиями лексики, фольклорных форм, мировоззренческих представлений о войне, формируемых как на основе традиционных пластов, так и инновационных текстов [4, с. 147–154; 5, с. 179–182]. Несколько ранее В.А. Тишков попытался определить предметные области этнографии войны как «неповторимую по своему рецепту культуру выживания, которая вбирает в себя многие элементы экономики, психологии и политики, мобилизованные социально культурные институты и ежедневные новации» [6], «одну из форм жизни в ее крайне противоречивых и драматичных проявлениях»: бой, плен, победы, песни, слухи и прочее [7], «трудно уловимую, но реально существующую связь между миром жизни и миром смерти, когда феномен насилия, бесспорно, демонстрирует свою принадлежность к сфере жизненных проявлений» [8], образы врага [9], религию на войне, этнографию заложничества и другое.
Из современных исследований, приближающихся к данному направлению, остановлюсь на двух: монографии петербургского ученого Владимира Викентьевича Лапина о русской армии в Кавказской войне и книге одного из самых талантливых молодых ученых Кабардино-Балкарии Асланбека Марзея о военном быте черкесов в XVIII – первой половине XIX в. Лучше всего автору удались как раз разделы, связанные с характеристикой историко-психологического типа солдат, офицеров и генералов Отдельного Кавказского корпуса, формирования особой военной общности «кавказцев». По его мнению, «постоянство» войны, необходимость адаптации к реалиям края способствовали превращению Отдельного Кавказского корпуса в некий субэтнос, заметно отличающийся и своим бытом и ментальностью от остальной императорской армии. Русская армия на Кавказе оказалась вовлеченной в процесс формирования культуры фронтира, элементы которой вступали в противоречие с уставными нормативными требованиями. Русская армия приспосабливалась к местным условиям, считает В.В. Лапин, не считаясь с тем, что все адаптационные меры в области обмундирования, фортификации, тактических установок и т.д., либо не утверждались, либо закреплялись в нормативных актах со значительным опозданием. В то же время, считает автор, вооруженные силы России и военная организация горцев имели различные знаковые системы и не могли найти общего языка [10]. К сожалению, история Отдельного Кавказского корпуса подается в книге лишь через призму военного противостояния с горцами. Вне исследовательского интереса В.В. Лапина оказалась созидательная деятельность кавказских войск в сфере хозяйственного освоения региона, его духовного развития, роль «кавказцев» в установлении взаимопонимания с местными народами. Результаты этой мирной миссии Отдельного Кавказского корпуса, как это прекрасно показал в своей кандидатской диссертации и монографии О.С. Пылков, были не менее внушительны, нежели лежащие на поверхности бои за Ахульго, Дарго, Гуниб или покорение Западного Кавказа [11]. Не менее внушительной выглядит роль Кавказской армии в создании собственно научного кавказоведения, в развитии в ее рамках интеграционных возможностей литературы, искусства музееведения и прочего [12].
Асланбек Марзей – яркая, талантливая и в то же время трагическая фигура в современной этнографии Кавказской войны. Изучая воинскую систему ценностей горцев, он совершенно обоснованно оперирует понятием «культура войны». Несколько идеализируя «рыцарский кодекс» черкесского общества, ученые не скрывал, что в ходе противостояния на Западном Кавказе партизанский характер ведения военных действий во многом сказался на трансформации этикета черкесского наездничества, заставил «употреблять в видах самосохранения и возмездия много таких уловок, которые не вытекали из духа народа» [13, с. 137]. Сколько у нас было сломано копий в отношении моральных оценок обычая, связанного с отрубанием голов у убитых противников в годы Кавказской войны. Асланбек Марзей взвешенно, с глубокими историческими экскурсами вплоть до «Илиады» Гомера, показывает, что этот обычай бытовал у многих народов, на Кавказе имел ритуальный характер и был связан с представлениями о том, что душа убитого не могла мстить убийце [14, с. 147]. Объективный спокойный антропологический подход исследования помогает прояснить многие спорные моменты кавказского противостояния и уйти от крайностей.
Весьма перспективной представляется теория «контактных зон», активно разрабатываемая как на зарубежном, так и на отечественном историческом материалах. Востребованным в данном случае предстает и опыт военно-исторической антропологии США, связанный с изучением фронтира американской истории (Ф. Тернер, Е. Фернисс, Д. Херман, Д. Брукс и другие). Перемещение внимания от изучения противоборства переселенцев из Старого Света и индейских обществ в сторону социокультурных контактных зон позволило американским историкам и антропологам отслеживать культурное взаимовлияние коренных американцев и бывших европейцев. Исследования не просто истории военного расширения границ США, а людей (агентов), втянутых в эти конфликты (agens of conflict), помогли преодолеть взгляд на коренных американцев лишь как на людей, в лучшем случае, «благородных и обреченных» (as noble and doomed), выявить многослойные контактные зоны (multi-layered contact zones), сообщества, которые шли навстречу друг другу по пути «примирения и культурного переопределения» (conciliation and cultural redefinition) [15; 16; 17]. В отечественной историографии концепция «контактных зон» активно разрабатывалась медиевистами (В.Д. Королюк, Е.А. Мельникова). В современном историческом кавказоведении ее приверженцами являются Л.С. Гатагова, В.В. Черноус, Д.И. Олейников [18; 19; 20, с. 8–9; 21], призывают преодолеть ограниченность самостоятельного развития этой концепции и интегрировать ее подходы с концептом фронтира окраин российского государства Т.П. Хлынина, Е.Ф. Кринко и А.Т. Урушадзе [22]. Представляется, что концепция «контактных зон» далеко не ис- черпала своих возможностей в изучении антропологии и истории Кавказской войны. Преодолев лежащее на поверхности прямолинейное рассмотрение конфликта как вооруженного противостояния «всей» Российской империи со «всеми» горцами, это научное направление предпочитает говорить не о жестком барьере, разделяющем царскую Россию и кавказские народы в 1820-е – 1860-е гг., а о встрече культур на фоне цивилизационного разлома [23]. При таком подходе исследовательский акцент делается не на соперничество, а на взаимодействие в рамках «контактной зоны». В реалиях Кавказской войны подобные «контактные зоны» отражают не только трагическую двойственность мировосприятия людей, оказавшихся сразу в двух несхожих культурах, но и выступают связующим звеном в общении российского и кавказского миров, постепенно превращающего разлом цивилизаций в срастающийся шов. Возьмем, например, такой институт Кавказской войны, как лазутчики. «Своим среди чужих, чужим среди своих» лазутчик был одновременно для обеих сторон, участвовавших в конфликте. Официальный язык Кавказской войны («продажный», «алчный», «коварный» и др. в глазах русских; «хлебающий свиной суп», «поганый», «гяурский всадник» и т.п. в глазах горцев) не всегда позволяет объективно оценить константы бытования института лазутчиков. Между тем пограничное положение последнего способствовало превращению «границы-фронта» войны в «границу-контактную зону» (фронтир). Вместе с другими подобными контактными зонами, этот институт работал, в конечном счете, на интеграцию, оформление единого российско-кавказского историко-культурного пространства. Лазутчики брали на себя большой нравственный груз, который самым драматическим образом сказывался на судьбах этих людей. Но при всей противоречивости мотивов тайных контактов в своем большинстве они способствовали пониманию и сближению позиций конфликтующих миров, формированию заинтересованности и взаимоуважения [24].
Выявление и анализ «контактных зон» показывает, что в истории Кавказской войны и ее трагических последствий имеются страницы, сближавшие наши народы, эпизоды сотрудничества, которые сложнее, богаче и многообразнее любых идеологических штампов. Правда, изучение этих событий требует не скороспелых пропагандистких сочинений, а кропотливой работы с источниками, без обвинений и покаяний. Во взаимоотношениях между людьми, представлявшими враждебные лагери в кавказском противостоянии, не раз действовали понятные для всех народов человеческие добродетели – человеколюбие, взаимоуважение, чувство благодарности. Отражая состояние и потребности души солдат Отдельного Кавказского корпуса, казаков и горцев, эти качества приобретали особый смысл на фоне неизменных спутников любой войны – грязи, жестокости и вероломства [25, с. 64–79].
Концепция «контактных зон» во многом сближается с принимаемой и применяемой рядом современных кавказоведов теорией «фронтира». Правда, груз идеологического воздействия на историческое кавказоведение здесь продолжает сказываться настолько, что в некоторых случаях «фронтир» обещает перерасти в историографический «фронт», поскольку для одних «фронтир» предстает своеобразной лазейкой, призванной обосновать преимущественно конфронтационный характер формирования российского Северного Кавказа, другим позволяет осмыслить механизмы исторически обусловленной интеграции [26, с. 72]. Последняя позиция представлена в современном кавказоведении Школой В.Б. Виноградова, которая отстаивает концепцию «российско-сти» как парадигму северокавказского историко-культурного единства в составе России. Концепция «российскости», по мысли ее авторов, предполагает осмысление механизма вхождения Кавказа в этнокультурное пространство России как глобальную предопределенность, тесную сопричастность, «совместничество», как взаимное тяготение во всех сферах исторического бытия [27, с. 6]. Исследовательскими усилиями В.Б. Виноградова, С.Л. Дударева, Н.Н. Великой. Ю.Ю. Клычникова, Б.В. Виноградова и др. концепция была творчески применена к изучению российско-чеченских отношений, к западнокавказскому материалу, прошлому северокавказского казачества, вехам вхождения Кавказа в состав России в целом, конкретным персоналиям, историкокультурным, литературным, научным реалиям региона и другое [28; 29; 30; 31; 32; 33]. На сегодняшний день встречаются самые разные оценки концепции «российскости», в том числе и крайние, которыми движет чувство неприязни, плохо скрываемой зависти и воинствующего экстремизма [34]. Не со всеми подходами разработчиков этой концепции применительно к истории Кавказской войны можно однозначно согласиться – это слишком многогранная, неоднозначная и необъятная проблема с разнородными явлениями, которые весьма сложно встроить в жесткую концептуальную схему. Однако представляется вполне справедливым емкое определение, данное ногайским ученым Рамазаном Хусиновичем Керейтовым и адыгейской исследовательницей Светланой Давлетбиевной Шаовой научно-педагогическому потенциалу коллектива: «Школа дружбы народов» [35, с. 86–87]. И действительно, сама постановка жгучих проблем современного кавказоведения, целая палитра предлагаемых вариантов решения, свежих идей и оценок, воспитание новых, ищущих и талантливых, интернациональных кадров кавказоведов – несомненная заслуга грозненско-армавирской Школы, вдохновленной парадигмой «российскости». Поэтому ее позитивный потенциал также необходимо задействовать в современных изысканиях.
Весьма перспективным применительно к истории военного противостояния на Кавказе выступает направление, получившее название империология. Империологические исследования дают наглядные примеры интеграционного воздействия имперского ядра на национальную периферию. Изучение арсенала стратегических средств Российской империи по вовлечению в ее орбиту различных национальных и сословных элементов на конкретных фамильных и семейных хрониках позволяет лучше понять феноменологию российской и кавказской элиты, сложный мир идентичностей в пространстве Северного Кавказа [36, с. 19–31; 37, с. 37–62; 38, с. 21–29]. В современной западной историографии Российская империя также нередко оценивается как фактор мира, процветания и глобального обмена идеями; империям вообще оказывается свойственно чувство ответственности за проживающие на имперской территории народы в гораздо большей степени, чем демократическим колониальным державам Европы [39, с. 124; 40, с. 317].
Осмысление и внедрение в практику кавказоведения современных научных направлений, которые условно можно обозначить как концепции «взаимопознания», будет способствовать творческому поиску ответов на суровые вызовы времени, позволит избежать крайностей в непростой картине взаимоотношений наших народов, поможет преодолеть эгоистические и конфронтационные подходы к историческому прошлому и духовному наследию многонационального Российского государства.
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации мероприятий ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по проекту «Политика России на Кавказе в прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации истории» (Соглашение 14.B37.21.0966).
-
2. Дегоев В.В. Социально-политические вызовы XXI века и пути развития российского кавказоведения // Кавказ в российской политике: история и современность. Материалы международной науч. конф. МГИМО (У) МИД России 16–17 мая 2006 г. М., 2007.
-
3. Там же. С. 30.
-
4. Бондарь Н.И. «Недосмотренный сон, недожитая жизнь» (К этнографии войны) // Российское общество и войны ХХ века: материалы Всероссийской науч.-практ. конф., посвященной 100-летию начала Русско-японской и 90-летию Первой мировой войны. Краснодар, 2004.
-
5. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). М., 2001.
-
6. Там же. С. 357.
-
7. Там же. С. 356.
-
8. Там же.
-
9. Там же. С. 358.
-
10. Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 378–379.
-
11. См.: Пылков О.С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина XIX в.). Армавир, 2011.
-
12. См.: Ткаченко Д.С., Колосовская Т.А. «Мы на Кавказе воевали не для того, чтобы разбить неприятеля и уйти…».
-
13. Марзей А.С. Черкесское наездничество – «ЗекIуэ» (Из истории военного быта чекесов в XVIII – первой половине
XIX в.). М., 2000.
-
14. Там же. С. 147.
-
15. Тернер Ф.Д. Фронтир в американской истории / пер. с англ. Л.И. Петренко. М., 2009.
-
16. Brooks J.F. Captives & Cousins: Slavery, Kinship, and Community in the Southwest Borderlands. Chapel Hill, 2002.
-
17. Herman D.J. Native American Representation. By Bataille, Gretchen M. The Western Historical Quarterly. 2003. Vol. 34.
-
18. Гатагова Л.С. Контактные зоны в истории Восточной Европы. М., 1998.
-
19. Черноус В.В. Культурно-цивилизационное взаимодействие на Северном Кавказе: история и некоторые тенден
ции // История: научные поиски и проблемы. Ростов н/Д., 2000.
-
20. Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и фор
мирования границ региона. Ростов н/Д., 2012. С. 8–9.
-
21. Олейников Д.И. Противоречия культурного билингвизма: особенности психологии русского офицера-горца в период Большой Кавказской войны // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития / под ред. Е.С. Сенявской. М., 2002.
-
22. Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Указ. соч. С. 9.
-
23. Олейников Д.И. Указ. соч. С. 230.
-
24. Матвеев О.В. Указ. соч. С. 44–56.
-
25. Матвеев О.В. «Казаки высказали замечательное добродушие и человеколюбие…». К вопросу о последствиях Кавказской войны // Казачество России: прошлое и настоящее: сб. науч. ст. Вып. 3. Ростов н/Д., 2010.
-
26. Приймак Ю.В. Северо-Восточное Причерноморье во внутри- и внешнеполитических процессах формирования южных границ России (конец XVII – первая треть XIX в.). Армавир, 2011.
-
27. Виноградов В.Б. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди. Книга регионоведческих статей, очерков и зарисовок / под ред. С.Л. Дударева. М.; Армавир, 2006.
-
28. Виноградов В.Б. Россия и Северный Кавказ: история в зеркале художественной литературы. Армавир, 2003.
-
29. Северный Кавказ с древних времен до начала ХХ столетия (историко-этнографические очерки) / под ред. и с предисловием В.Б. Виноградова. Пятигорск, 2010.
-
30. Очерки истории Российского Северного Кавказа второй половины XVI – середины XIX века / под ред В.Б. Виноградова. Славянск-на-Кубани, 2010.
-
31. Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск, 2002.
-
32. Виноградов Б.В. Интегративные проекты и дезинтегрирующие факторы в российско-северокавказских взаимо
отношениях конца XVIII – начала XIX в. Славянск-на-Кубани, 2009.
-
33. Виноградов Б.В., Виноградов В.Б., Клычников Ю.Ю. Российская власть и горский традиционный уклад: очерки взаимодействия в конце XVIII – начала XXI века. Славянск-на-Кубани, 2012.
-
34. Баудинов И. В.Б. Виноградов, кавказоведческая школа академика В.Б. Виноградова, история народов Северного Кавказа. URL: http://ran55.livejournal.com/2781.html (д ата обращения: 11.10.2013).
-
35. Шаова С.Д., Баисова М.В. Школа дружбы народов // Кавказоведческая школа В.Б. Виноградова: становление, современность, перспективы (материалы к заседанию «круглого стола» в честь 10-летия педагогической деятельности в Армавирском госпединституте). Армавир, 2012.
-
36. Матвеев О.В. Семейная история через призму империологии // Российско-польский исторический альманах. Вып. V. Ставрополь, 2011.
-
37. Матвеев О.В. Поляки в укреплениях Черноморской береговой линии в 30–50-е годы XIX века: история повседневности // Кубанский сб. Т. III (24) / под ред. А.М. Авраменко, Г.В. Кокунько. Краснодар, 2008.
-
38. Матвеев О.В. Великий князь Михаил Николаевич на завершающем этапе Кавказской войны // Былые годы. Чер
номорский исторический журнал. Сочи, 2009. № 3 (13).
-
39. Дегоев В.В. Введение в политическую историю Северного Кавказа (XVI век – 1917 год): учеб. пособие. М., 2009.
-
40. Адиб Халид. Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии.
Социокультурная деятельность Кавказской армии (по воспоминаниям и исследованиям соврменников). Ставрополь, 2011.
№ 1. Spring.
Работы последних лет: антология / сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005.