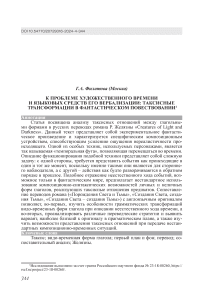К проблеме художественного времени и языковых средств его вербализации: таксисные трансформации в фантастическом повествовании
Автор: Филатова Г.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу таксисных отношений между глагольными формами в русских переводах романа Р. Желязны «Creatures of Light and Darkness». Данный текст представляет собой экспериментальное фантастическое произведение и характеризуется специфическим композиционным устройством, способствующим усилению ощущения нереалистичности происходящего. Одной из особых техник, используемых персонажами, является так называемая «темпоральная фуга», позволяющая перемещаться во времени. Описание функционирования подобной техники представляет собой сложную задачу: с одной стороны, требуется представить события как происходящие в один и тот же момент, поскольку именно такими они являются для стороннего наблюдателя, а с другой - действия как будто разворачиваются в обратном порядке в прошлое. Подобное отражение неестественного хода событий, возможное только в фантастическом мире, предполагает нестандартное использование композиционно-синтаксических возможностей личных и неличных форм глаголов, реализующих таксисные отношения предикатов. Сопоставление переводов романа («Порождения Света и Тьмы», «Создания Света, создания Тьмы», «Создания Света - создания Тьмы») с англоязычным оригиналом позволяет, во-первых, изучить особенности грамматических трансформаций видо-временных форм глагола при описании неестественного хода времени, а во-вторых, проанализировать различные переводческие стратегии и выявить вариант, наиболее близкий к оригиналу в прагматическом плане, а также изучить возможности представления таксисных отношений при передаче нестандартных композиционно-временных ситуаций.
Таксис, видо-временная форма глагола, первый план и фон, перевод, сопоставительный анализ, желязны
Короткий адрес: https://sciup.org/149147200
IDR: 149147200 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-344
Текст научной статьи К проблеме художественного времени и языковых средств его вербализации: таксисные трансформации в фантастическом повествовании
Taxis; verb tense; theory of grounding; translation studies; comparative analysis; Zelyazny.
В. Шмид, говоря о вымышленности как о важном свойстве литературного произведения, указывает на фиктивность изображаемого в художественном произведении пространства и времени. Фиктивными являются и те периоды (и территории), которым «соответствует конкретный эквивалент в реальности» [Шмид 2003, 33], и – что более очевидно – те, которые не связаны ни с какой реальной эпохой. При этом движение времени в фантастическом произведении – таком тексте, где изначально предполагается некоторое (или значительное) нарушение привычных свойств и пропорций, исчезновение границ между возможным и невозможным и т.д. (см., напр.: [Лавлин-ский, Павлов 2008; Тодоров 1999]) – может быть устроено еще более условно даже по меркам фикционального мира. Как отмечает Ц. Тодоров, одной из специфических функций фантастического в произведении является своеобразная «тавтология»: оно «позволяет дать описание фантастического универсума, который не имеет поэтому реальности вне языка» [Тодоров 1999, 79].
Обращаясь к изучению хронотопа в литературе, исследователи прежде всего связывают структуру подобного пространственно-временного единства с категориями персонажа, жанра, общим замыслом произведения, а также с особым коммуникативным взаимодействием автора и адресата (М.М. Бахтин, Б.А. Успенский, Ю.М. Лотман, В.Е. Хализев, А.И. Ковтун, Л.Г. Бабенко, У. Эко и другие ученые). Однако в нашем исследовании мы бы хотели продолжить анализ в рамках концепции «неестественного нарратива» (см., например, [Narrative Sequence in Contemporary Narratology 2016]) и обратить внимание на специфику отражения течения времени в фантастическом тексте и возможность его нестандартного изображения: события развиваются линейно в соответствии с сюжетом и одновременно разворачиваются в обратную сторону. Материалом исследования послужил роман Р. Желязны «Creatures of Light and Darkness» и его русские переводы. Именно сопоставление оригинального и переводных текстов позволяет проследить операции с художественным временем, которые производит автор, а также увидеть возможные трудности при интерпретации, с которыми столкнулись переводчики.
Роман является одним из ранних произведений Р. Желязны (впервые полностью опубликован в 1969 г.) и интересен для исследователей своим особым экспериментальным устройством. В статье рассматриваются наиболее известные варианты перевода романа на русский язык: перевод В. Лапицкого «Порождения света и тьмы» (впервые издан в 1992 г.), перевод М. Денисова и С. Барышевой «Создания света – создания тьмы» (1993 г.), а также более поздний перевод А. Ганько «Создания Света, Создания Тьмы» (2003 г.).
Заявленная «экспериментальность» текста поддерживается не только на уровне сюжета – специфической интерпретацией мифологических фактов и особым композиционным устройством произведения, но и на языковом уровне – в частности, через выбор нестандартных грамматических форм глаголов. Тип повествования в романе – третьеличный нарратив, при этом преобладают глаголы в форме настоящего времени (герой видит, вскакивает и т.д.). В данном случае использование таких форм не является средством выделения какой-либо сюжетной сцены; учитывая и приключенческую, и философскую составляющую романа, прагматический эффект использования настоящего времени с одной стороны, делает сюжет более интересным для читателя, а с другой – позволяет оказывать более интенсивное эмоциональное воздействие [Уржа 2015]. При этом третьеличное повествование усложняется регулярными обращениями разных типов к эксплицитному читателю . Тем самым адресат превращается из читателя, который отстраненно знакомится с событиями, в непосредственного зрителя, а благодаря иллюзии живого взаимодействия – даже в «участника» происходящего : например, его внимание постоянно привлекают к каким-либо сюжетным или локусным особенностям, его мнением «интересуются».
Особенно часто адресату предлагается роль наблюдателя, находящегося в конкретной точке и имеющего возможность следить за сюжетом через перцептивные каналы. Это реализуется через широкое использование перцептивных глаголов, обращенных к адресату ( посмотри на мир; видите, как они толпятся? ) [Филатова 2020]. Кроме того, выбор самой формы настоящего времени в качестве основного способа изложения предполагает, что действие разворачивается как бы на глазах у читателя.
Однако часть сцен, несмотря на связь с непосредственным наблюдением, на деле оказывается сложным совмещением перцептивной и ментальной модусной рамки [Сидорова 2001], поскольку описываемые события в силу своей фантастичности не вполне естественно укладываются в обычный формат наблюдения. В данной статье мы рассмотрим одну такую сцену – из главы «ARMS AND THE STEEL MAN» (в русских переводах «Война / Руки / Плоть / и стальной человек»; интересно сразу отметить такую разницу в переводе слова arms , что указывает на попытку переводчиков соотнести внешне простое заглавие с событиями, описанными в главе).
По сюжету одной из самых сложных техник сражения является так называемая темпоральная фуга. Это особая сверхъестественная техника, доступная только богам или бессмертным, которая состоит в возможности перемещения во времени и создания своих копий в различных временных отрезках. Приведем пример, который наглядно показывает, как данная техника работает (в переводе В . Лапицкого):
Исчезает Вэйким.
Исчезает Стальной Генерал.
За тридцать секунд до того позади Генерала стоит Вэйким, и впереди Генерала стоит Вэйким, и Вэйким, который стоит позади, который только что объявился в этом мгновении, сцепляет руки вместе и поднимает их, чтобы нанести сокрушительный удар по металлическому шлему...
...тогда как за тридцать пять секунд позади Вэйкима из этого момента Времени появляется Стальной Генерал, отводит руку, взмахивает ею…
…тогда как Вэйким тридцати секунд, увидев себя в фуге наносящим двуручный удар, волен исчезнуть, что он и делает, во время на десять секунд ранее, когда готовится он посоперничать в силе с увиденным своим будущим образом... [Желязны 2017].
Описание функционирования подобной техники представляет собой сложное синтаксическое целое: с одной стороны, требуется представить события как происходящие в один и тот же момент, поскольку именно такими они являются для стороннего наблюдателя, а с другой – действия как будто разворачиваются в обратном порядке в прошлое («[герой] видя, как наносят двойной удар, успевает исчезнуть и перенестись на десять секунд раньше и там готовится изменить ход битвы»). Такая запутанная система, отражающая неестественный ход событий в фантастическом мире, предполагает нестандартное использование композиционно-синтаксических возможностей личных и неличных форм глаголов, реализующих таксисные отношения предикатов. По определению Р.О. Якобсона, таксис характеризует «сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения» [Якобсон 1972, 106–107], однако в романе Желязны эти факты постоянно меняются местами: сначала читатель думает, что одно событие произошло раньше другого, но в следующей же строке оказывается, что все происходит ровно наоборот. Рассмотрим, как подобная структура передается в переводах.
Таблица 1
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А.И. Ганько |
|
Diamond hooves striking the ground, rising , falling again. Rising … Wakim and the Steel General face one another, unmoving [Zelazny]. |
…Бриллиантовые копыта, ударяющие о землю, вздымающиеся , вновь падающие . Вздымающиеся … …Вэйким и Стальной Генерал лицом к лицу, не двигаясь [Желязны 2017]. |
Алмазные копыта бьют о землю – снова и снова... Оаким и Стальной Генерал стоят лицом к лицу [Желязны 1993]. |
Алмазные копыта бьют в землю, вздымаются и снова падают . Уэйким и Стальной Генерал, не двигаясь , стоят лицом к лицу [Желязны 2003]. |
В таблице 1 приводится самое начало главы, и в первом же абзаце заметны расхождения между текстом Лапицкого и вариантами других переводчиков: он переводит формы на -ing причастиями настоящего времени, при этом соблюдает их порядок и сохраняет повтор. В двух других переводах причастный оборот трансформируется в двусоставное предложение, где предикат выражается акциональным глаголом (глаголами) в форме настоящего времени. Во втором абзаце Лапицкий и Ганько переводят форму на -ing одинаково – деепричастием, при этом Лапицкий опускает глагол face , превращая тем самым конструкцию в безглагольное предложение с синтаксическим нулем.
В переводе Денисова – Барышевой наблюдаются наибольшие отступления: часть предикатов просто опущена, а указание на действия в первом предложении сокращено до одного глагола – бьют , семантика повторяемости полностью отдана конструкции снова и снова , что смещает акцент с непосредственного наблюдения за актуальным процессом на простое фактологическое изложение событий.
Таблица 2
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А.И. Ганько |
|
It is said that a fugue battle is actually settled in these first racking moments of regard, before the initial temporal phase is executed , in these moments which will be wiped from the face of Time by the outcome of the striving, never to have actually existed [Zelazny]. |
Считается, что исход схватки в фуге на самом деле определяется в эти первые изнурительные моменты Взгляда, до того, как будет приведена в исполнение собственно временная фаза, в эти моменты, которые будут стерты с лица Времени исходом схватки, чтобы никогда в действительности не существовать [Желязны 2017]. |
Говорят, что битва фуги решается именно в эти мучительные мгновения концентрации внимания до того, как последует первая темпоральная атака, – в эти мгновения, которые исходом битвы будут стерты с лица Времени, как будто никогда не существовали ... [Желязны 1993] |
Говорят, что битва фуги и ее исход в основном предрешают эти первые, изматывающие мгновения полной сосредоточенности, перед началом самого темпорального действа, – те мгновения, что после битвы будут стерты с лика Времени, как будто их и не существовало вовсе [Желязны 2003]. |
В примере, представленном во таблице 2, предикат is executed во всех переводах представлен по-разному. У Лапицкого это глагольно-именная перифраза в форме пассивного залога будущего времени, что по формальным признакам ближе всего к оригиналу (составной предикат с причастием), хоть и со сменой времени. В переводе Денисова – Барышевой это глагол совершенного вида в форме простого будущего времени, что смещает событие ближе к центру функционального поля темпоральности [Теория функциональной грамматики 1990]. Наконец, вариант Ганько, напротив, сдвигает событие на периферию поля темпоральности – используется девербатив, образованный от фазисного глагола.
Интересно переводческое решение в последней части конструкции – для всех вариантов выбрана ирреальная модальность, однако у Лапицкого это при- даточное цели, а в остальных переводах – сравнительный оборот, при этом в тексте Ганько выбрано отрицательное предложение с генитивным субъектом (как будто их не существовало), вследствие чего для наблюдателя-адресата совсем снижается сама возможность существования подобных «моментов начала битвы» [Падучева 2017].
Таблица 3
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М.Денисов, С. Барышева |
А.И. Ганько |
|
–while the Wakim of thirty seconds ago, seeing himself in fugue, delivering his two-handed blow, is released to vanish , which he does , into a time ten seconds before, when he prepares to emulate his future image observed [Zelazny]. |
…тогда как Вэй-ким тридцати секунд, увидев себя в фуге наносящим двуручный удар, волен исчезнуть , что он и делает , во время на десять секунд ранее, когда готовится он посоперничать в силе с увиденным своим будущим образом... [Желязны 2017]. |
...тогда как Оа-ким тридцать секунд назад, видя себя в фуге наносящим удар, исчезает , чтобы перейти в момент времени за десять секунд до того, где он готовится подражать своему будущему образу, замечая ... [Желязны 1993]. |
Уэйким же за тридцать секунд до этого, видя , как наносят в фуге двойной удар, успевает исчезнуть и перенестись на десять секунд раньше и там готовится изменить ход битвы, наблюдая ... [Желязны 2003]. |
В примере из таблицы 3 ярко заметны расхождения в таксисных отношениях между переводами. В варианте Лапицкого это следующие типы соотношения событий: увидев заносящим (удар) (одновременные действия), увидев, волен исчезнуть , что и делает (последовательные действия), готовится посоперничать с увиденным (последовательные действия, где первое по времени – увиденным ); калькируется конструкция which he does – что он и делает , отсутствующая в прочих русских текстах. Интересно, что финальный компонент observed Лапицкий понимает как характеристику образа ( увиденный в будущем образ ), а остальные переводчики воспринимают это действие в рамках зависимого таксиса и используют деепричастия.
У Денисова – Барышевой большая часть событий представлена как одновременные: видя наносящим (удар), исчезает, чтобы перейти (три действия происходят как бы одномоментно, а затем к ним добавляется придаточное цели с инфинитивом, которого нет в английском тексте), готовится посоперничать, замечая (действие, названное деепричастием, происходит параллельно с действием , названным глаголом-модификатором готовиться ).
Больше всего изменений относительно оригинального текста в переводе Ганько: видя, как наносят (удар), успевает исчезнуть и перенестись – первые два действия происходят одновременно, следующие два – последовательно друг за другом. Помимо появления модально-фазисного модификатора успевать, привносящего дополнительные модусные смыслы, в переводе изменилась субъектная перспектива: за счет превращения предложения в неопределенно-личное стало неясно, кто наносит удар. Возникает ощущение снижения эвиденциального статуса доступной адресату информации [Уржа 2023], из-за чего становятся возможны дополнительные интерпретации (это может быть и сам Уэйким, и оба противника сразу, и все их копии, существующие в разных временных отрезках).
Таблица 4
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А.И. Ганько |
|
–as the General of thirty-five seconds before the point of attack sees himself draw back his hand, and vanishes to a time twelve seconds previously… [Zelazny]. |
...когда Генерал тридцати пяти секунд до точки атаки видит себя заносящим руку и исчезает во время на двенадцать секунд до того... [Желязны 2017]. |
...как Генерал за тридцать пять секунд от начала схватки видит себя готовым к удару и исчезает , чтобы появиться двенадцатью секундами раньше... [Желязны 1993]. |
...как Генерал за тридцать пять секунд до начала поединка улавливает грядущий удар и смещается в прошлое еще на двенадцать секунд... [Желязны 2003]. |
В примере из таблицы 4 неоднозначность субъектной перспективы возникает не только в переводе Ганько, как в предыдущем примере, но и в тексте Денисова - Барышевой: вторичный предикат удар / грядущий удар может подразумевать в качестве действующего субъекта как самого Генерала, совершающего прочие действия в данном абзаце, так и его противника – и тогда получается, что Генерал не сам готов нанести удар и уже заносит руку, а только видит, как это намерен сделать его противник – и поэтому смещается еще раньше. В переводе Лапицкого этой неоднозначности нет, субъектом всех трех действий является сам Генерал.
Таблица 5
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А.И. Ганько |
|
…The General of forty-seven seconds before the point of attack retreats fifteen to strike again, as his self of that moment observes him and drops back eight [Zelazny]. |
...Генерал сорока семи секунд до точки атаки отступает , чтобы нанести новый удар , на пятнадцать, когда тамошний он, его заметив , откатывается на восемь... [Желязны 2017]. |
...Генерал за сорок семь секунд до начала схватки отступает на пятнадцать, чтобы опять ударить , но сам он из того момента замечает себя и отступает на восемь... [Желязны 1993]. |
...Генерал за сорок семь секунд до начала схватки отступает еще на пятнадцать, собираясь атаковать . Временной двойник, заметив его, уходит на дополнительные восемь секунд в прошлое... [Желязны 2003]. |
В примере из таблицы 5 между русскими текстами возникли перекрестные совпадения. В переводе первого фрагмента совпали варианты Лапицкого и Денисова - Барышевой: отступает, чтобы нанести удар - целевое придаточное предложение указывает, что отступление нужно именно для новой атаки, в то время как вариант Ганько предполагает, что Генерал собирался атаковать, но ему пришлось отступить в процессе этой атаки. Напротив, во втором фрагменте совпадают варианты Лапицкого и Ганько: заметив (его), откатывается / уходит – важным является только факт ухода, а предшествующее ему ментальное действие заметив отнесено в сферу зависимого таксиса и становится фоновым; в переводе Денисова – Барышевой значимыми для сюжета являются оба действия, выраженные личными формами глаголов (замечает и отступает), при этом именно такое – последовательное – соотношение предикатов представлено в оригинале.
Отметим также, что практически во всех рассмотренных выше примерах в других переводах приводится номинация «за столько-то секунд до», а Лапиц-кий конструирует специфический родительный падеж принадлежности: Генерал сорока семи секунд до точки атаки, Вэйким тридцати секунд .
Таблица 6
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А.И. Ганько |
|
Wakim behind the Steel General, attacking , at minus seventy seconds sees the General behind Wakim, attacking , as both see him and his other see both [Zelazny]. |
Вэйким, нападая сзади на Генерала в минус семьдесят секунд, видит Генерала, нападающего на Вэйкима, и оба Генерала видят его, как и его альтер эго видит обоих Генералов [Желязны 2017]. |
Оаким за спиной Стального Генерала, обрушиваясь на него, видит в момент за семьдесят секунд до начала атаки Генерала, нападающего на Оакима, когда оба Генерала видят его, а второй Оаким видит обоих [Желязны 1993]. |
Уэйким, стоя за спиной атакующего Стального Генерала, в минус семидесятую секунду видит Генерала за спиной готового нанести удар Уэйкима, и одновременно оба Генерала замечают его [Желязны 2003]. |
В примере из таблицы 6 в переводе Ганько снова наблюдаются расхождения с оригиналом и другими переводами, связанные с интерпретацией последовательности действий. В переводах Лапицкого и Денисова – Барышевой все действия происходят одновременно, в них также совпадают все формы предикатов: деепричастия нападая / обрушиваясь (субъектом которых является Вэй-ким), соотносимые с английской формой на - ing, глагол видеть (с трехкратным повторением) и причастие нападающий (субъектом которого является Генерал) . В варианте Ганько мы находим совершенно другую интерпретацию исходного текста: Вэйким стоит за спиной атакующего Генерала, а затем видит Генерала за спиной готового нанести удар Уэйкима – таким образом, субъекты буквально меняются местами. Кроме того, в двух первых переводах одинаковое количество зеркальных временных копий обоих противников – по два Уэйкима и по два Генерала, в то время как у Ганько Генералов больше – Вэйким находится в одиночестве, судя по последнему местоимению (оба Генерала замечают его ).
По сопоставительному анализу таксисных отношений в русских переводах романа можно сделать некоторые выводы о переводческих стратегиях. В тексте Лапицкого заметно стремление и передать максимально точно лексические особенности (например, во всех случаях, когда одна лексема повторяется в близких контекстах, то же самое сохранено и в переводе) и соблюсти синтак- сическую структуру оригинала. В ряде случаев это приводит к калькированию, зато нет ни одного пропуска фрагмента текста и даже одиночных вторичных предикатов; хотя встречаются примеры, когда выбранный вариант соотношения действий представляется неоднозначным (например, перевод формы на -ing деепричастием совершенного вида). В переводе Денисова – Барышевой опускается значительное число текстовых фрагментов, при этом в каких-то случаях видно стремление переводчиков сохранить общую идею (например, вместо повторяющихся глагольных форм использовать дополнительные лексические показатели с той же семантикой). Наибольшее количество отступлений от оригинального текста наблюдается в переводе Ганько: возникают не предусмотренные в оригинальном тексте случаи неоднозначной трактовки (например, включение неопределенно-личных предложений), и даже меняются не только варианты таксисных отношений между предикатами, но и роли субъектов.
Сопоставление разных переводов фантастического текста позволяет оценить, как меняется интерпретация движения времени (как естественного, так и нестандартного), а также более полно рассмотреть грамматический репертуар разных языков. Безусловно, сами по себе изменения таксисной структуры не делают фикциональный текст менее «фантастичным» (в разных переводах романа время все еще движется неестественно по сравнению со «стандартным нарративом»), однако они приводят к созданию у адресата различных представлений об исходном тексте (разная трактовка степени активно сти персонажей, действий героев и даже их количества).
Список литературы К проблеме художественного времени и языковых средств его вербализации: таксисные трансформации в фантастическом повествовании
- Лавлинский С.П., Павлов А.М. Фантастическое // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 278-281.
- Падучева Е.В. Отрицание. Общая характеристика // Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики (http://rusgram.ru). На правах рукописи. М., 2017. URL: http://rusgram.ru/new/chapter/negation_intro/ (дата обращения: 15.03.2024).
- Сидорова М.Ю. Грамматика художественного текста. М.: Центр-М, 2001. 400 с.
- Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л.: Наука, 1990. 262 с.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 144 с.
- Уржа А.В. Функциональные спутники настоящего исторического в русских переводах нарративных текстов // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2015. № 1. С. 76-94.
- Уржа А.В. Прагматические и семантические эффекты интерпретирующей деривации в русских неопределенно-личных предложениях // Stephanos. 2023. Т. 60. № 4. С. 21-27.
- Филатова Г.А. Приемы перевода перцептивных глаголов в контексте апелляций к читателю // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 122. С. 143149.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 311 с.
- Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М.: Наука, 1972. С. 95-113.
- Narrative Sequence in Contemporary Narratology / edited by R. Baroni, F. Revaz. Columbus: The Ohio State University Press, 2016. 280 p.