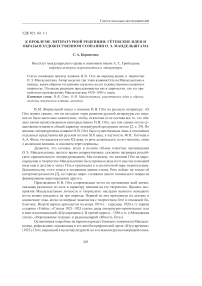К проблеме литературной рецепции: гётевские идеи и образы в художественном сознании О. Э. Мандельштама
Автор: Корниенко Сергей Анатольевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу влияния И. В. Гёте на мироощущение и творчество О. Э. Мандельштама. Автор выделил три этапа влияния Гете на Мандельштама и показал, каким образом это влияние сказалось на его художественном сознании и творчестве. Гётевские рецепции прослеживаются как в лирических, так и в прозаических произведениях Мандельштама 1920-1930-х годов.
И. в. гёте, о. и. мандельштам, рецептивные идеи и образы, аллюзии, творческое влияние, акмеизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146278394
IDR: 146278394 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи К проблеме литературной рецепции: гётевские идеи и образы в художественном сознании О. Э. Мандельштама
В. М. Жирмунский писал о влиянии И. В. Гёте на русскую литературу: «О Гёте можно сказать, что ни на одном этапе развития русской литературы его влияние не было настолько значительно, чтобы, исключив из ее состава все то, что обязано своим происхождением непосредственно И. В. Гёте, мы тем самым могли существенно изменить общий характер литературной продукции эпохи» [2, с. 29]. По мнению литературоведа, влияние И. В. Гёте было существенным лишь в отношении отдельных представителей русской поэзии XIX века, в частности, Ф. И. Тютчева и А. А. Фета; что касается поэзии ХХ века, то речь должна идти, по его мнению, лишь о косвенном влиянии, в основном через переводы.
Думается, что сегодня, когда в полном объеме известны произведения О. Э. Мандельштама, настало время скорректировать суждение патриарха российского сравнительного литературоведения. Мы полагаем, что влияние Гёте на мироощущение и творчество Мандельштама было прямым (ведь поэт выучил немецкий язык еще в детстве и читал Гёте в оригинале) и в достаточной мере значительным. Доказательству этого тезиса и посвящена данная статья. Речь пойдет не только об интертекстуальности [5], но гораздо шире: о влиянии одного гениального творца на формирование мироощущения другого.
Произведения И. В. Гёте сопровождали поэта на протяжении всей жизни, оказывая различное по силе и характеру влияние на его творчество. Процесс восприятия Мандельштамом личности и творческого наследия великого немецкого поэта можно разделить на три периода. Первый из них приходится на детские и юношеские годы, когда он впервые знакомится с творчеством Гете в отцовской библиотеке. Второй период приходится на конец 1910-х – середину 1920-х гг. (время создания «Tristia», «Стихов 1921–1925 годов», ряда литературно-критических эссе и книги воспоминаний «Шум времени»). И третий период – 1930-е гг. («Московские стихи», «Воронежские тетради» и радиосценарий «Юность Гете»).
Остановимся подробнее на первом периоде гётевского влияния на Мандельштама, рефлексивно отраженным в его автобиографической прозе «Шум времени» (1923). Поэт, выросший в мультикультурной, но в основном русскоговорящей семье, называет своё детство «хаосом иудейства» [8, т. 2, с. 213]. В петербургской квартире было множество книг, в том числе и большое количество религиозной литературы, на «руинах» которой из кирпичиков русской классической поэзии выросло миропонимание О. Э. Мандельштама как поэта. Он с ранних лет предпочитал мировую классику вороху «нечитаемых книг “Бытия”, заброшенных в пыль на книжную полку шкафа, ниже Гёте и Шиллера» [Там же, с. 214].
На становление О. Э. Мандельштама как поэта оказала большое влияние классика немецкой литературы, а также книги его матери на русском языке. Одна из характеристик поэзии О. Э. Мандельштама, по точному замечанию Л. Г. Кихней, это стремление автора «одомашнить» многие окружающие его явления [4]. Сначала он не принимает и дистанцируется от них, затем приближает их к себе и в конце концов вписывает их в свою картину мира. Во времена своей молодости он хорошо чувствовал разницу между А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым, а вот И. В. Гёте и Ф. Шиллера считал близнецами.
Второй период гётевских рецепций характеризуются структурным подходом: упоминания и отсылки к И. В. Гёте приобретают систематический характер. В своих эссе О. Э. Мандельштам часто делает аллюзии на творчество и биографию великого немца. Например, по мнению П. Нерлера, в статье «Пшеница человеческая» И. В. Гёте является для русского поэта «одним из высших представителем европейскости» [10, с. 171] . Для него Европа – «…земля, несущая Рим и собор святого Петра, земля, носившая Канта и Гете <…>. Так альпийские стихи Тютчева одухотворены историческим ощущением европейской почвы, и двойной тиарой для поэта увенчаны европейские Гималаи» [8, т. 2, с. 86]. И. В. Гёте для О. Э. Мандельштама того периода – это вершина европейкой культуры.
В стихах и статьях О. Э. Мандельштама второго периода мы находим ряд перекличек с творчеством немецкого поэта. Очевидной отсылкой к «гётевскому следу» является название статьи Мандельштама, посвященной анализу ситуации в русской поэзии первой четверти ХХ в., – «Буря и натиск». Очевидно, что Мандельштам выстраивает историко-литературную параллель с процессами, происходившими в немецкой литературе первой четверти ХIХ в., ведь одним из застрельщиков “Sturm und Drang” и самым талантливым из «бурных гениев» был именно молодой И. В. Гёте.
Гётевские подтексты появляются и в лирических стихотворениях О. Э. Мандельштама конца 1910-х – начала 1920-х гг. Так, прямая отсылка к известной балладе Гёте «Лесной царь» присутствуют в стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» (1918): «Старинной песни мир – коричневый, зеленый, / Но только вечно молодой, / Где соловьиных лип рокочущие кроны / С безумной яростью качает царь лесной» [Там же, т. 1, с. 101]. Эти строки определённо навеяны описанием «Лесного царя» в балладе: “Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? / Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?” («Ты не видишь лесного царя, отец? Лесного царя с короной и хвостом?» ( перевод наш – С. К.) [13]. В немецком языке у слова “die Krone”, помимо значения «корона», есть и значение «крона дерева», и именно это значение использовал Мандельштам во фрагменте, посвященном лесному царю.
Еще один гётевский подтекст обнаруживается в стихотворении «Грифельная ода» (1923). В стихе «Двурушник я, с двойной душой» [8, т. 1, с. 135] В. Ми-кушевич справедливо усматривает связь с фаустовскими строками: “Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust” [9, с. 62]. В герое «Грифельной оды», как и в Мефистофеле, слилось небесное и земное, он сочетает в себе все стихии и человеческое начало, принадлежность к таинственным обществам и плоть от плоти народа, божественное и инфернальное, характеристики творца и задатки разрушителя миров. Оба героя воплощают в себе целый мир во всей его противоречивости.
В целом второй период гётевского влияния интересен тем, что Гёте для Мандельштама превращается из столпа мировой литературы, некоего далёкого, недоступного для понимания, но чрезвычайно манящего своей мощью феномена, в живого человека, в литературного коллегу, старшего собрата по перу, у которого можно позаимствовать многое в его взглядах и технике стихосложения. Любопытно, что в 1930-е гг., по свидетельству Н. Я. Мандельштам, интерес Мандельштама к поэзии XX в. снизился и он начал покупать книги по зарубежной классической литературе, в первую очередь И. В. Гёте: «В Армении О. М. вернулся к немцам и в тридцатых годах усиленно их покупал – Гёте, романтиков – Бюргера, Ленау Эйхендорфа, обоих Клейстов, Гердера и еще, и еще» [6, с. 288].
В творчестве Мандельштама 1930-х гг. (в третьем рецептивном периоде по нашей классификации) И.В. Гёте из собрата по литературному «цеху» превращается в «лирического героя» его стихов, своего рода “alter ego” поэта. Мандельштам всё чаще сравнивает себя с великим немцем, даже находит биографические аналогии. Так, для него поездка в Армению, ставшая переломным моментом, – это гётевское «Итальянское путешествие». Р. Дутли пишет об этом времени: «Его собственный замысел, связанный с Арменией, также обернется встречей Востока и Запада в духе «Западновосточного дивана» Гете, однако – в характерно мандельштамовском ключе» [1, с. 231]. В Армении О. Э. Мандельштам наконец освободился от наваждения столицы, но даже там он не переставал чувствовать опасность, исходящую от государства и грозящую ему и людям вокруг. К этому периоду относятся и прямые упоминания имени Гёте в произведениях Мандельштама, например, в стихотворении «К немецкой речи» (1932). Выдвинем гипотезу, что в этом стихотворении отразился неосуществленный замысел Мандельштама написать труд, посвященный биографии великого немца. В строках «Еще во Франкфурте отцы зевали, / Еще о Гёте не было известий» [8, т. 1, с. 179] мы видим лирическое отражение материалов к биографии И. В. Гёте, что воплотилось позже в сценарии для радиопостановки «Юность Гёте». Имя Гёте упоминается и в стихотворении «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» (1933–1934), входящем в цикл «Восьмистишия»: «И Гёте, свищущий на вьющейся тропе…» [Там же, с. 186] .
По мнению Г. Киршбаума, образ немецкого поэта навеян здесь путешествием О. Э. Мандельштама по Армении, по высокогорным извилистым тропам [3]. Но мы полагаем, что мотивация упоминания имени Гёте может быть интерпретирована иначе. В финальном двустишии: «И те, кому мы посвящаем опыт, // До опыта приобрели черты» [8, т. 1, с. 186], – Мандельштам намекает, что образ Гёте может быть связан с совсем другим событием.
Третье упоминание имени Гёте в поздней лирике поэта встречаем в стихотворении «Рим» (1935). Выдвинем предположение, что и «римский текст» Мандельштамом воспринимался сквозь призму гётевских рецепций. Ведь еще для раннего Мандельштама «Рим был <…> совершеннейшим произведением природы» [11, с. 36]. Вспомним хотя бы его стихотворение 1914 г. «Природа – тот же Рим и отразилась в нем…» [8, т. 1, с. 76]. Аналогичное восприятие Рима мы находим у И. В. Гёте в его первой римской элегии: “Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom” [14] . Рим поражал обоих поэтов своим величием, исторической значимостью, монументальной красотой. В
«римском тексте» О. Э. Мандельштама, как и у Гёте, мы видим тоску по навсегда ушедшему величию «вечного» города.
В воронежской ссылке Мандельштам написал цикл радиопостановок, из которых до нас дошла только «Молодость Гёте» (1935). За основу была взята автобиографическая книга И. В. Гёте «Поэзия и правда» [12]. В ней он старался найти те эпизоды, которые ему лично были близки или совпадали с фактами из его собственной биографии. Из воспоминаний вдовы поэта мы узнаем, что поэт как бы примеривал жизнь, биографию И.В. Гёте на себя: «Тема воссоздания своей жизни, своих возрастов очень характерна для Мандельштама. Именно ради нее он взялся за «Юность Гёте» [7, с. 221].
Итак, пик влияния И. В. Гёте на О. Э. Мандельштама приходится на середину 1930-х гг. Это выражено как в постоянном обращении к произведениям немецкого автора, так и в изучении его биографии и сопоставлении с событиями своей жизни. В этот период мы находим прямые отсылки и апелляции к имени Гёте, к его взглядам, философским представлениям – как в эссе Мандельштама, так и в его лирических стихах.
Список литературы К проблеме литературной рецепции: гётевские идеи и образы в художественном сознании О. Э. Мандельштама
- Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография. СПб.: Академический проект, 2005. 432 с.
- Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л.: Худож. лит., 1937. 674 с.
- Киршбаум Г. Валгаллы белое вино. //Библиотека электронной литературы в формате fb2. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/К/kirshbaum-genrih/valgalli-beloe-vino/5. (Дата обращения: 25.07.2017.)
- Кихней Л. Г. Осип Мандельштам: Бытие слова. М.: Диалог МГУ, 2000. 146 с.
- Кихней Л. Г. К механизму образования интертекстуальных мотивов: мотивный комплекс волчьей травли в русской поэзии ХХ в.//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. Вып. 1. С. 46-58.
- Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. 552 с.
- Мандельштам Н. Я. Комментарии к стихам 1930-1937. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 544 с.
- Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. 811 с.; Т. 2. Проза. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. 759 с.
- Микушевич В. Двойная душа поэта в «Грифельной оде» Мандельштама//Сохрани мою речь. Вып. 3. Ч. 1. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2000. С. 55-62.
- Нерлер П. Гете в произведениях Мандельштама//Con amore: Этюды о Мандельштаме. М.: Нов. лит. обозрение. 2014. C. 171-174.
- Пшыбыльский Р. Рим Осипа Мандельштама//Мандельштам и античность: сб. статей. М.: Радикс, 1995. C. 33-64.
- Goethe J. W. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. //Zeno.org. URL: http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe+ Johann+Wolfgang/Autobiographisches/Aus+meinem+Leben.+Dichtung+und+Wahrheit. (Дата обращения: 10.10.2017.)
- Goethe J. W. Erlkonig. //WikipediA. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Erlk%C3%B6nig_(Ballade). (Дата обращения: 05.07.2017.)
- Goethe J. W. Faust: eine Tragodie . URL: https://vk.com/doc143790965_437031229hash=1164879c645ec1eb77&dl… (Дата обращения: 05.07.2017.)