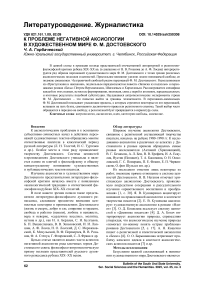К проблеме негативной аксиологии в художественном мире Ф. М. Достоевского
Автор: Чеслав Антонович Горбачевский
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье в проекции взгляда представителей отечественной литературной и религиозно-философской критики рубежа XIX–XX вв. (в диапазоне от В. В. Розанова до А. Ф. Лосева) интерпретируется ряд образов персонажей художественного мира Ф. М. Достоевского с точки зрения различных аксиологических подходов и ценностей. Пристальное внимание уделено ложно понимаемой свободе, ее подмене своеволием / безграничной свободой рядом персонажей Ф. М. Достоевского: Раскольниковым из «Преступления и наказания», подпольным парадоксалистом повести «Записки из подполья» и персонажами романа «Бесы» Петром Верховенским, Шигалевым и Кирилловым. Рассматривается специфика каждой из этих подмен, истоки ее формирования, эволюция, связь с верой и атеизмом, парадоксальность и итоговые результаты подобной субституции. Неудавшиеся антропологические эксперименты героев Ф. М. Достоевского – это попытки выйти за границы человечности. В персонажах-своевольцах Ф. М. Достоевский показывает ужасающие пределы, к которым стремятся некоторые из его персонажей, вставших на путь бунта, самозваного деспотичного права или религиозного атеизма. Такой выбор часто обращается в пародию на свободу, а религиозный бунт превращается в карикатуру силы.
Аксиология, категория свободы, своеволие, человекобог, самоубийство
Короткий адрес: https://sciup.org/147251431
IDR: 147251431 | УДК: 821.161.1.09, 82.09 | DOI: 10.14529/ssh250308
Текст научной статьи К проблеме негативной аксиологии в художественном мире Ф. М. Достоевского
К аксиологическим проблемам и к осознанию субъективно-личностных начал в действиях персонажей художественных текстов обращались многие отечественные писатели в классический период русской литературы (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и др.). Особое место в этом ряду принадлежит творчеству Достоевского. Система ценностей в произведениях Достоевского уникальна и является одним из ключей к философскому и общему концептуальному пониманию художественных и публицистических текстов писателя.
Изучение аксиологии в художественном мире Достоевского представителями литературно-философской критики началось вместе с появлением «аксиологической традиции» в отечественной философии на рубеже XIX–XX столетий.
В поле нашего зрения попали такие представители литературно-философского духовного ренессанса, сделавшие предметом внимания ценностные категории в произведениях Достоевского (жизнь и смерть, добро и зло, смирение и гордыня, свобода и рабство (неволя), любовь и ненависть, вера и неверие, «сердечное веселие», молитва, истина и др.), как Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, И. И. Лапшин, А. Ф. Лосев, Н. О. Лосский, Д. С. Мережковский, К. Мочульский, В. Ф. Переверзев, В. В. Розанов, Ф. А. Степун, Г. Флоровский, С. Л. Франк и др.
Целью статьи является анализ части аспектов негативной аксиологии ряда ключевых героев Достоевского сквозь философско-антропологическую призму взглядов представителей русского духовного ренессанса рубежа XIX–XX веков.
Обзор литературы
Широкое изучение аксиологии Достоевского, связанное с религиозной составляющей творчества писателя, началось на рубеже 1980–1990 гг. К исследованию аксиологии в различных ее аспектах у Достоевского в разные времена обращались самые разные исследователи (Антоний (Храповицкий), В. Г. Безносов, А. Л. Бем, В. В. Ерофеев, И. А. Есаулов, Иустин (Попович), Т. А. Касаткина, О. Н. Осмоловский, Г. С. Померанц, П. Е. Фокин, Е. П. Червин-скене, О. фон Шульц и мн. др.).
Из последнего отметим лишь некоторые из работ, имеющие прямое отношение к системе ценностей Достоевского. В. В. Неганов отмечает христианскую аксиологию Достоевского, проявляемую посредством созерцания и рассудительного изучения «нравственного воспитания и преображения» [1, c. 30]. Я. В. Кушнаренко акцентирует внимание на православной аксиологии в контексте творчества писателя [2]. Е. В. Кузнецова анализирует художественную аксиологию в романе «Идиот» [3]. О. Д. Кошелева исследует систему ценностей в «Дневнике писателя» [4]. Д. А. Богач интерпретирует аксиологию природы, справедливо утверждая, что аксиологическое изучение природы «помогает по-новому понять острые проблемы» романов Достоевского [5, с. 17]. А. Н. Кошечко пишет о религиозной и атеистической аксиологии в «Бесах» [6]. О. О. Барышникова затрагивает проблему женского идеала в контексте аксиологических аспектов писателя [7] и др.
Методы исследования
Безусловно важной составляющей в понимании художественного мира Достоевского является система ценностей, представленная как целостно, т. е. во всем творчестве писателя в целом, так и отдельными составляющими его аспектами. Для реализации цели настоящей статьи мы использовали типологический и сравнительно-типологический подходы при анализе отдельных образов писателя в границах заданной аксиологической сферы, включающей в себя концепции, ключевые для понимания художественных и философских идей, представленных в ряде прозаических текстов Достоевского. Также к работе привлекались методические приемы (системный и проблемный), связанные с целостным анализом художественного произведения.
Результаты и дискуссия
Одной из основных ценностей в художественном мире Достоевского является свобода. Писатель понимал её необходимость, правду, но вместе с тем и трудность в жизненном воплощении.
Целенаправленное художественное осмысление категории свободы писатель начинает с «Записок из подполья». Свобода подпольного антигероя, намеревающегося выйти за собственные пределы и проверить возможность совершения преступлений во имя высших ценностей, не знает границ. Метафизика поступков подпольного парадоксалиста определяется неудержимым желанием быть и оставаться собой. В глубине его натуры просыпается вывернутое наизнанку шестое чувство, уничтожающее любое незыблемое положение и любую общепринятую формулу. В своевольном желании, по его мнению, человеческая индивидуальность не умирает, а темная иррациональная сила, обретаемая в человеческом сердце, и сознание личной свободы сильнее спокойного блаженства [8, с. 246]. Зачастую желание иррационального в любом его виде совершается по причине настоятельной потребности утвердить свою волю, поскольку свободный человеческий путь берет начало в крайнем индивидуализме и бунте против внешнего устройства мира; получает развитие гипертрофированное самолюбивое подполье; становится видимым раскрывающий свою диалектику «подпольный человек» со всем набором недостатков и пороков [9, с. 128]. Этот внутренний тайный человек восстает против установленных порядков во имя принципа, отвергающего всяческие авторитеты. Он не принимает рациональной логики, отрицающей свободу в обусловленном мире, где несвободный человек более прост и понятен. Такая рациональная логика с деформированной системой свободы как, например, у Шигалева в «Бесах» и Великого инквизитора в «Братьях Карамазовых» составляют костяк диктаторских режимов всех времен.
Иррациональный подход подпольного человека к окружающему миру вскрывает парадоксы в его силлогизмах, в которых мысли опровергают друг друга, доказывая скрытую глубоко в челове- ческой природе необходимость в бунте и своеволии. Произвол подпольного антигероя деградирует в направлении метафизического деспотизма и бессодержательной свободы.
Подпольный парадоксалист прячется от реальности в бездне собственных тайных претензий к ней, как в особую призрачную область, становясь жертвой неизвестной обусловленности. Он не смог успокоить внутренние конфликты, его субъективное сознание пошло на поводу у внутреннего, алогичного многоголосия. В «гипогенной» сущности произошел разлад между чувственным восприятием и логическим сознанием. Свобода оказалась далекой от цельности, не знающие границ своеволие и бунт привели подпольного человека к деградации свободы, трагическому распаду и разложению личности, мутировали во внутреннюю дезориентацию и в полное обезличивание человека [2, с. 13].
Структура повествования ряда произведений Достоевского пропитана образцами разнообразных проявлений своеволия, произвола и деспотизма: в диапазоне от курьезного Фомы Опискина до Великого инквизитора с его всеохватывающей практической программой всеобщей «правильной жизни», в которой «вместо всеобщей любви между людьми, все будут любить Инквизитора и его избранных» [10, с 239].
Специфика свободы Петра Верховенского по ряду характерных признаков отличается от специфики своеволия подпольного парадоксалиста. Свободу духа Верховенский стремится обрести посредством «свежей кровушки» [11, т. 10, с. 325]. Петр Степанович – натура творческая и весьма активная, трактующая людей на манер «шашек в шахматном ходе» [12, с. 22]. В представлении о свободе Верховенский склоняется к самозваному деспотичному праву, разрешая себе любое бесчинство и безобразие. Понятая таким образом мораль вполне оправдывает его действия. Находясь в состоянии, связанном ложными этическими установками, Верховенский ищет удобный способ уничтожения не принимаемого им окружающего мира.
По мнению Д. Мережковского, Верховенский – личность пророческая, предварившая русских революционеров [8, с. 105]. А Ф. Степун в Верховенском видит всеобъемлющий образ темного провокатора [13, с. 317].
С социологических позиций вывернутую наизнанку свободу, связанную с известным положением «среда заела», критиковал В. Переверзев, утверждая, что Федька Каторжный из тех же «Бесов» сможет уважать чью-то личность только тогда, когда родится в другой среде [14, с. 579–580]. Очевидно, что подобная социологическая позиция вовсе не безупречна, но все же содержит и разумную основу. Достоевский утверждал в «Дневнике писателя», что положением «среда виновата»
можно оправдать самые жестокие преступления, совершаемые в порыве благородного протеста.
Верховенский мнит себя сверхчеловеком, имеющим право на убийства. Он последователен в мысли о том, что, чем больше мера своеволия, тем меньше этических границ и больше свободы [15, с. 383]. В действительности, отступив от собственного я , он превратился в бессодержательную единицу, попал в зависимость от стихийных внешних сил, вовлек в смертельный круговорот всех, связанных с ним [16, с. 185].
Художественная эволюция Верховенского, а вместе с ней эволюция его своеволия не закончились чем-то положительным, осознанием собственной неправоты, пагубности действий для окружающих. Напротив, демоническая активность, безумные намерения и помрачившееся сознание превратили его в невольника мрачных страстей, избавивших его от власти над собой.
Другой теоретик создания всеобщего счастья посредством насильственного обезличивания – Шигалев. В образе мироздания Шигалева абсолютная свобода и произвол являются звеньями одной нигилистической цепи, в которой свободная малая часть человечества имеет право принудить к рабству остальную, большую часть. По сути, та же арифметическая идея, что и у Раскольникова: одна никому не нужная смерть способна окупить сто полезных жизней. Своеобразная диктаторско-абсолютистская система Шигалева издевается над демократией и свободой, утверждая отрицание общепринятых норм и становясь провозвестником «рабства под знаменем свободы» [17, с. 67].
В подготовительных материалах к «Бесам» Достоевский писал о недвусмысленных принципах нигилиста и революционера Нечаева, что организация (ассоциация, общество), в которой шпионят и доносят друг на друга, вправе прибегать ко лжи, убийству и обману для высшей цели и своей победы.
В рукописных редакциях к «Преступлению и наказанию» Достоевский говорит о безжизненном «механизме» как главной цели механического общества / социализма, называя такой процесс «китайщиной», в которой человек с живой душой попросту исчезает, устраняется.
Человеческий муравейник для Шигалева – необходимое итоговое звено в строительстве здания всеобщего благоденствия, в котором не останется места всевозможным чужакам, мешающим возводить идеальный социум. Форма общественного устройства Шигалева может позволить человеческому поголовью демократию, осчастливить его, и в этом смысле она позволит устроиться в муравейнике, но на своих правах. В этой свободе наизнанку все вперемешку: презираемые люди, муравейник превращаются в ступени одной лестницы, а своеволие и свобода тирана всего лишь видимость, в которой сам тиран – раб окружения, готового в подходящий момент устранить своего хозяина [18, с. 418]. По мысли Сократа, тиран является рабом угодливости и страха, поскольку сходен со строем управляемого им государства [19, с. 734].
В образе Шигалева представлен исторический гностик, утверждающий, что абсолютная свобода кровно связана с деспотизмом избранных, «имеющих право» [20, с. 156]. И Шигалев, оправдывая эгоистическое своеволие, причисляет себя к числу право имеющих.
Идеал Шигалева соответствует идее Раскольникова о власти над общим муравейником и над каждой дрожащей тварью в отдельности. По сути, это тоже шигалевщина, но иначе выраженная. В шигалевщине Раскольникова есть отличие от таковой Верховенского. Отличие связано с сомнениями Раскольникова по поводу своей возможности «преступить». У Верховенского подобных вопросов никогда и не было.
Ничем не сдерживаемая свобода вместе с неограниченным деспотизмом являются квинтэссенцией изобретенной Шигалевым мрачной системы общественного порядка, основанного на утопических идеях достижения всеобщего блага.
Промежуточные выводы об эволюции негативной свободы, вместе с тем и об аксиологической проблематике, выглядят следующим образом. Если размышления подпольного человека свидетельствуют о глубинной потребности человека в бунте и подтверждают тезис о свободе как иррациональной силе, нуждающейся в контроле, то Шигалев и Верховенский обличие свободы находят в неуправляемом, нигилистическом возмущении («пожаре») в умах. При этом своеволие может быть выше личного благополучия и приводить персонажей Достоевского к трагедии – самоубийству.
Одной из краеугольных тем всего творчества Достоевского является проблема экзистенцио-нального присутствия человека в мире. Проблему эту невозможно представить без проекции взгляда на свободу. В пределах этой проекции Достоевский рассматривал самоубийство как ключевую нравственную проблему человека.
На страницах самых разных текстов (художественных, подготовительных материалов к ним, публицистики) писатель приводит множество причин и примеров трагического сведения счетов с жизнью. В этом длинном ряду находится самоубийство Кириллова, совершённого по причине своеволия.
Алексей Кириллов в определенном смысле продолжатель логических построений подпольного антигероя. Он высказывается о необходимом существовании Бога, но вместе с тем утверждает, что Его нет. Такая антиномия лежит в основе запутанной метафизики самоубийства [21, с. 335]. Вместе с тем, противоречивые слова Кириллова о существовании Бога подтверждают двойственность его религиозной натуры. Непостижимость многих персонажей Достоевского в том, что его атеисты не безусловно неверующие [22, с. 379]. По словам В. Зеньковского, о тайне свободы могут знать не только богобоязненные, но и бунтующие против Него [23, с. 341]1. Нигилистическое сознание Кириллова зрит себя в образе человекобога. Ему кажется, что он, как новый человек, способен сделать мир лучше. Нужно лишь при необходимости уметь переступить через этическую границу прежнего человека-раба [24, с. 23]. В Кириллове рождается логический самоубийца, пытающийся избавить человечество от Бога. После избавления он собирается добиться в земной жизни перерождения и стать двойником Христа [25, с. 19]. Кириллов словно уподобляется древнегреческим олимпийцам, использовавшим самоубийство для ухода от страха [26, с. 67].
Образ Кириллова отмечен идеей бунта как самоцели, ведущей к различным подменам: воли на своеволие, истинной свободы на свободу, ведущую к уничтожению себя [27, с. 64]. Идея, оторванная от жизни («беспочвенная») и становящаяся властителем личности, аннигилирует свободу личности, вместе с тем уничтожая всяческие разумные (если таковые имеются) границы надуманных идей [28, с. 90].
При всей ущербности теории Кириллова, она утверждает приоритетное мнение о необходимости свободы для человека, без которой любые теории не могут быть живыми и истинными. Древнеримский стоик Сенека утверждал, что дорога свободы становится невозможной, когда осуждается произвол над своей жизнью. Демосфен самоубийством умозрительно «узаконил» свободу Афин, а свобода Рима была оформлена самоубийством Катона Младшего, Брута и Кассия [26, с. 70]. Античный архетип свободы древних правителей обрел продолжателя в персонаже Достоевского, изобретателе идеи социального самообмана, низвергающего Бога и рождающего человекобога.
Кириллов вполне понимает, что за самоубийством последует не только ожидаемая свобода от жизни, но и безблагодатное небытие. Он хочет быть первым в достижении так странно понятой нирваны. Кириллов стремится получить адское наслаждение от собственной смерти, жаждет почувствовать головокружительную склонность заглянуть в бездонную пропасть и восхититься своей смелостью.
Кириллов получает в единоличное владение свое я и убивает себя, чтобы засвидетельствовать бунтарство и страшную свободу. При этом он осознает трагизм такой свободы, пытаясь его преодолеть самоубийством. Оголенное понятие свободы, превратившееся в идола, обратилось в иллюзию о сверхчеловеке, подменив христианское открове- ние о свободе, связанной с Христом. Кириллов становится провозвестником нового пути в мире, создателем новой религии, в которой средством для достижения цели является не только Бог, но и автор идеи человекобога, т. е. он сам. Двойственность между идеями «да будет воля Твоя» и «да будет воля моя» приводит Кириллова к самоубийству.
Кириллов в определенном смысле предшественник Фридриха Ницше, поскольку тайное Кириллова становится явным у Ницше. У обоих культ я теряет всякие сдерживающие принципы. Индивидуализм Ницше, как и индивидуализм Кириллова, с общими идеями человекобога и сверхчеловека, противостоит стадности, противопоставляется пошлому спокойствию «среднего человека», но вместе с тем вследствие отрыва и изоляции от ближнего, от общества приводит Кириллова к самоубийству, а Ницше к сумасшествию (разумеется, наряду с прочими сопутствующими причинами).
Выводы
Так, в своевольцах Достоевский показывает ужасающие границы, к которым стремятся его персонажи, выбравшие методологию бунта как самоцели, самозваного деспотичного права или религиозного атеизма. Такой выбор часто обращается в пасквиль на свободу, а религиозный бунт – в карикатуру силы.
В отношении религиозного безбожия Кириллова справедливо утверждение, что оно не так далеко отстояло от подлинной веры. Парадоксально и то, что самоубийство Кириллова совершено исключительно по религиозным основаниям.
Таким образом, неудавшиеся антропологические эксперименты героев Достоевского – это попытки на различный лад выйти за собственные пределы. Эти антропологические опыты не имеют однозначного толкования, но в ряде случаев можно говорить о подмене живой веры разумным анализом или проповедью перевернутой христианской свободы, не имеющей прочного фундамента.
Проблематика изучения аксиологии Достоевского через призму взглядов литературной и религиозно-философской критики рубежа XIX–XX веков требует дальнейшего изучения, поскольку тексты авторов, входящих в этот круг, в советский период практически не изучались, в настоящее время они также остаются недостаточно исследованными.