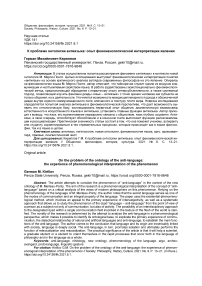К проблеме онтологии антиязыка: опыт феноменологической интерпретации явления
Автор: Кириллов Герман Михайлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлена попытка рассмотрения феномена «антиязык» в контексте новой онтологии М. Мерло-Понти. Целью исследования выступает феноменологическая интерпретация понятия «антиязык» на основе критического анализа взглядов современных философов на это явление. Опираясь на феноменологию языка М. Мерло-Понти, автор отмечает, что тайноречие служит одним из модусов коммуникации и неотъемлемым свойством языка. В работе задействованы экзистенционально-феноменологический метод, предполагающий обращение к первичному опыту интерсубъективности, а также системный подход, позволяющий изучить феномен диады «язык - антиязык» с точки зрения человека как субъекта не только общения, но и деятельности. Уточняется возможность междисциплинарного подхода к обозначенной диаде внутри единого коммуникационного поля, вписанного в текстуру плоти мира. Новизна исследования определяется попыткой анализа антиязыка в феноменологической перспективе, что дает возможность выявить его онтологическую базу, эксплицировать первичный опыт общения, диалектическую взаимосвязь естественного и искусственного языков и антиязыка, установить главные функции антиязыка. Автор приходит к выводу, что язык, его возникновение неразрывно связаны с обществом, язык глубоко социален. Антиязык, в свою очередь, способствует обособлению и в конечном счете выполняет функцию релексикализации и ресоциализации. Практическая значимость статьи состоит в том, что она поможет ученому, аспиранту или студенту сориентироваться в тех стремительных процессах, которые происходят как в языке философии, так и в языке в целом.
Антиязык, нигитология, новая онтология, феноменология языка, арго, археоавангард, праязык, лингвистический жест
Короткий адрес: https://sciup.org/149138702
IDR: 149138702 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2021.8.1
Текст научной статьи К проблеме онтологии антиязыка: опыт феноменологической интерпретации явления
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия, ,
Penza State University, Penza, Russia, ,
Наличие языка принадлежит к важнейшим характеристикам бытия человека. Язык – сложнейший многоаспектный феномен. Попытки дать ему определение неоднократно осуществлялись писателями, лингвистами и философами, хотя вряд ли его можно подвести под какие-либо шаблоны, заключить в те или иные рамки. Язык – уникальный феномен, имеющий культурную, познавательную, коммуникативную функции. Существуют десятки различных трактовок его природы. По мнению одних авторов (позитивистов и структуралистов), язык является феноменом конвенциональным, другие понимают его онтологически, в частности немецкий философ-экзистенциалист М. Хайдеггер называет язык «домом бытия», в котором обитает человек [1, с. 203]. Построение «дома» зависит от созидательных способностей индивида. Понятие «дом» связано прежде всего с таким феноменом, как естественный язык, который используется для общения людей и имеет натуральное происхождение. Французские экзистенциалисты пытались совместить два этих подхода.
Стремительный бег времени, происходящие в науке и философии перемены, связанные с глобализацией и информатизацией, не могли не затронуть язык, что нашло отражение и в научной терминологии. Изменения в мире стали особенно зримы в последние десятилетия. В современной литературе эти масштабные процессы получили название «поворотов». Особое место среди них занимает лингвистический поворот, который совпал со сменой универсального языка науки, в том числе философии.
В последнее время многие исследователи говорят о том, что для философии стали узки рамки обычного языка. От линейного движения она постепенно перешла к криволинейному. Наверное, неплохо, что движение философской мысли перестало казаться нам линейным, как это представлялось Г. Гегелю и К. Марксу. При этом на пути к истине все чаще происходят перевороты не только политические и социальные, но и научно-парадигмальные. Лингвистический поворот XX в. современный философ А.С. Нилогов увязывает с «антиязыковым переворотом всей истории философии» [2]. Исследователь радикализирует проблему, предлагая обозначить «предметное поле философии антиязыка… и закрепить ее в качестве нового раздела философии» [3, с. 81] ∗ . Он приводит рабочее определение антиязыка, называя его системой (совокупностью) «классов антислов, которые представляют соответствующие области частично или полностью не поименованного бытия» [4, с. 12]. Он опирается на методологическую базу нигитологии археоавангарда Ф.И. Гиренка, полагающего, что «современный человек нуждается в Ничто, потому что оно делает его свободным и разумным. Только в пространстве Ничто… <можно> положить себя в основание нового ряда явлений» [5]. А.С. Нилогов считает себя продолжателем не только идей Ф. Гиренка, но и традиций протоструктурализма Ж. Дерриды, двигаясь в направлении от протописьменности к антиязыку. Поскольку начинания А.С. Нилогова имеют революционный характер, не приходится удивляться, что явление антиязыка порождает новые вопросы.
Целью статьи выступают феноменологическая интерпретация явления «антиязык» и анализ взглядов философов XIX – начала XXI в. на этот феномен. Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 1) осуществить лингвофилософский обзор работ, в которых рассматриваются вопросы дефиниции антиязыка, и выявить его основные характеристики; 2) обозначить место антиязыка в пространстве взаимообмена естественного и искусственного языков; 3) обосновать возможность специфического философского подхода к антиязыку, опираясь на феноменологию языка М. Мерло-Понти; 4) осуществить функциональный анализ антиязыка (на базе его способности к релексикализации и ресоциализации).
Экзистенционально-феноменологический метод, являющийся одним из основных в гуманитарном познании, предполагающий обращение к первичному опыту интерсубъективности, используется в статье для конкретизации возможных определений антиязыка, выявления его вариантов: арго, жаргона, профессионального сленга и др., а также для задействования феноменологического подхода М. Мерло-Понти к пониманию телесности применительно к толкованию бинома взаимодействия «язык – антиязык». Кроме того, в работе нашли приложение лингвистический и междисциплинарный методы. Новизна исследования заключается в том, что проблема феноменологии антиязыка в свете онтологии М. Мерло-Понти получает бытийственное обоснование.
Новообразования в языке нуждаются в исследованиях. В связи с этим полагаем, что практическая значимость настоящей статьи состоит в том, что она позволит начинающему ученому, аспиранту или студенту сориентироваться в тех стремительных процессах, которые происходят как в языке философии, так и в языке в целом, разобраться в причинах и характере изменений для того, чтобы сформировать собственную точку зрения на этот феномен, а значит, обрести
∗ Идея А.С. Нилогова не нова: впервые предложил создать некий новый универсальный язык, предназначенный прежде всего для облегчения общения между учеными разных стран, известный английский священник и полимат Дж. Уилкинс.
себя в качестве лингвистического и социального субъекта. Очевидно, что за использованием антиязыка просматривается наличие скрытых проблем, которые с его помощью прорываются наружу. Понимание феномена «антиязык» поможет молодежи, самому социально подвижному слою населения, в ее стремлении к социализации, а также ресоциализации в том случае, когда ее контакты с социумом по тем или иным причинам ослабевают или утрачиваются (молодежные субкультуры, преступные сообщества и др.).
Обратимся к вопросу о возможности философии антиязыка, рождение которой декларирует А.С. Нилогов. Стоит вспомнить, что в свое время Б. Рассел подчеркивал, что для философии необходим особый язык, отличающийся от обыденного языка с его неизбежной двусмысленностью [6]. Позднее от этой идеи позитивизм был вынужден отказаться. Однако, видимо, в настоящее время мы вновь наблюдаем подобную попытку . Отметим, что новаторская инициатива А.С. Нилогова получила широкий отклик у коллег. Тем не менее проблема институализации языка, на наш взгляд, начинается уже с определения понятия «антиязык», которое допускает различные толкования. Философ В.А. Кутырев, рассуждая о языке, подчеркивает, что термин «антиязык», используемый А.С. Нилоговым, может иметь сразу несколько возможных референтов: «антиязык – это тоже язык, но универсальный, “прото” и “архе”… <В нем> могут быть острова в виде естественного языка» [7, с. 62]. По мнению В.А. Кутырева, применительно к разработкам А.С. Нилогова речь скорее всего идет о некоем «вместо-языке», который и в философии, и, вероятно, в обыденной жизни должен заменить естественный язык. Однако если, по представлению А.С. Нилогова, естественному языку присущ эффект «изначального опоздания», то «вечное опережение» антиязыка может быть выражено как своеобразный «фальстарт».
Заметим, что А.С. Нилогов считает необходимым укоренение в философии антиязыка, что, на наш взгляд, несколько преждевременно. В самом деле, антиязык стихийно получает все большее распространение ввиду отсутствия четких норм и эффекта «остранения» современного медиапространства вследствие утраты изначальных смыслов, стоит ли уже имеющийся антиязык дополнять искусственным – философским? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попытались сопоставить взгляды на феномен антиязыка философов и лингвистов. На специфику понимания языка философией указывал П. Рикёр, подчеркивающий, что «науку о языке интересует замкнутая система знаков, а философия языка “прорывает” эту замкнутость в направлении бытия и исследует феномен языка как элемент обмена между структурой и событием; ведущая роль в этом обмене принадлежит живому слову» [8]. Полагаем, что данное замечание относится и к антиязыку, поскольку он, как и язык, является коммуникативной системой.
В отличие от А.С. Нилогова многие другие исследователи относятся к антиязыку негативно. Так, современный русский философ С.Е. Шилов дает резкую оценку этому феномену, называя его «квазифилософским концептом». А. Браточкин характеризует антиязык как некий симулякр, способный со временем вытеснить естественный язык [9] ∗ . Русско-американский философ М. Эпштейн предлагает следующее толкование антиязыка: «Пропагандистский язык, направленный на передергивание реальности и подтасовку понятий в интересах языкового субъекта» [10]. Тем не менее вряд ли можно согласиться с однозначно отрицательными оценками. Полагаем, что антиязык – непреходящее явление. Попытаемся дать определение этому феномену. Антиязык – это некий альтернативный способ коммуникации, который в отличие от искусственных языков, созданных для определенных целей, способен заполнить собой бреши, существующие в естественном языке, образующиеся вследствие нарушений в среде сосуществования общества и отторгнутых им элементов, в том числе социальных групп и индивидов. Системы языка естественного и искусственных, а также антиязыка в свете новой онтологии М. Мерло-Понти представляются незамкнутыми, как не являются окончательными те разрывы в социальной ткани, отражением и выражением которых он служит. Представляется, что антиязык в различных формах существовал всегда, поскольку он способен решать коммуникативные задачи, которые традиционный язык решить порой не в состоянии. Очевидно, он необходим не только отдельным индивидам, но и обществу в целом, ведь оно неоднородно и включает в себя маргиналов и аутсайдеров, к каковым иногда относят и философов.
Язык литераторов – также в какой-то мере антиязык. В. Гюго в романе «Отверженные» создает выразительный и точный образ такого неоднозначного явления, как антиязык. Писатель называет арго настоящим языком в языке, нездоровым черенком, который привился, это «паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа» [11, с. 542]. Можно убедиться в том, что В. Гюго видит в антиязыке что-то отдельное от языка и даже опасное, представляя его неким паразитом
∗ А. Браточкин приводит примеры политического антиязыка: «красно-коричневые», «либерасты», «заста-билы», «титушки» и др.
на теле естественного языка. Возможно, антиязык берет на себя слишком много, вмешиваясь в процесс словотворчества, манипулируя им по своей прихоти. Все это, разумеется, недопустимо с точки зрения языковых норм, однако оказывается приемлемым, если речь идет о более широком, чем язык, явлении – коммуникации. Видимо, философская точка зрения на проблему должна быть шире филологической и подразумевать диалектику понимания коммуникации, поэтому в нее в качестве составляющих (тезиса и антитезиса) должны быть включены как язык, так и антиязык. При этом философский подход к данной диаде предполагает свою специфику. Вероятно, антислово не может быть предъявлено ученой аудитории в чистом виде, по мнению С.Е. Шилова, поскольку как только слово «попадает из антиязыка в язык, оно перестает быть антисловом и становится обычным словом» [12]. Тем не менее в противоположном случае антислово оказывается замкнутым внутри другой системы – уже антиязыковой – и рано или поздно прекращает свое существование, как только в нем пропадает необходимость, а субкультура его носителей естественным образом исчезает. Однако антиязык может возникнуть вновь, лишь появится очередная группа «отверженных»: низов общества, деклассированных элементов, желающих «отгородиться» от социума. Поэтому и система антиязыка также оказывается закрытой.
Если обратиться к филологической интерпретации понятия «антиязык», также можно отметить различное толкование этого термина. Некоторые ученые-филологи полагают, что антиязык имеет искусственное происхождение и обладает частным и ограниченным приложением. Другие языковеды убеждены, что это вполне самостоятельное явление, оно может существовать и развиваться сколько угодно долго. Например, по мнению современного лингвиста Н.Н. Шарандиной, арго, иначе – антиязык, выступает «самостоятельной функциональной языковой системой, имеющей свои особенности грамматики, словообразования и графического представления» [13]. М.А. Грачев, составитель словарей арго [14], отмечает «объединяющую» роль тайных языков в среде деклассированных элементов, люмпенов, где оно всегда служило средством межворовского общения [15]. Известный лингвист В.Д. Бондалетов считает, что такой языковой феномен, как арго, т. е. социальный диалект, можно отнести к антиязыку, поскольку он занимает «промежуточное» положение между естественным и искусственным языком. Так, будучи фактом языка, социальные диалекты разделяют все основные его функции. Тем не менее каждый из типов социальных диалектов по-своему воплощает и реализует эти функции, часто выдвигая на первый план такие их стороны, которые в общенародном языке лишь намечены, но бывают не развернуты [16].
Один из наиболее известных языковедов Р.О. Якобсон на основе теории коммуникативного акта обозначил следующую систему функций языка и речи. Три из них являются универсальными, т. е. присущими любым языкам во все исторические эпохи. Это функция, обусловленная фактом сообщения информации; экспрессивно-эмотивная функция, указывающая на отношение говорящего к своему сообщению; и призывно-побудительная функция, связанная с регуляцией поведения адресата сообщения (ее принято называть регулятивной). Кроме того, лингвист выделяет призывно-побудительную функцию и ее разновидность – магическую функцию: ее проявления – табу, обет, молчание, заговор [17]. Речь идет о неконвенциональной стороне языка, категории речевого поведения, которая устанавливает запрет на употребление тех или иных номинаций. Полагаем, что все эти функции в той или иной степени характерны и для антиязыка, но при этом они имеют преломление, поскольку оказываются преобразованными или усеченными. По-видимому, антиязык – это возврат к изначальным истокам общения. По мысли Д.С. Лихачева, существование арго (другими словами – антиязыка) – регрессия в языке, его упрощение и конкретизация [18]. Впрочем, в лингвистике нет единства и в отношении проблем естественного языка, в частности его субъективности, споры об этом не утихают и поныне. Ф. де Соссюр, основоположник структурализма, утверждал, что «язык – не деятельность говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности» [19, с. 457]. В свою очередь, Э. Бенвенист, касаясь вопроса субъективности языка, приходит к иным выводам: «Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда он обозначает себя как говорящий, как бы присваивать себе язык целиком» [20, с. 296]. Лингвист был убежден, что язык создан «по мерке человека». Его подход вошел в историю лингвистики в качестве антропоцентрического.
Если обратиться к зарубежным исследованиям по антиязыку, то акцент в них делается в основном на языке/языках интернет-сообщества (Netspeak) [21], подчеркивается его/их творческий характер. Среди функций антиязыка также выделяются способность создавать барьер между языком замкнутого сообщества и естественным языком [22, p. 57], формировать социальную реальность, альтернативную общепринятой [23, p. 370], наконец, воссоздавать изначальную «магическую» способность языка соединять слово и действие [24, p. 122–124].
Анализ приведенных источников и вариантов интерпретаций феномена «антиязык» и его функций свидетельствует о том, что на данный период проблемы дефиниции языка, а также выявления его функциональных свойств как в философской перспективе, так и в филологической требуют дальнейшего исследования.
Характерно, что в разработках, касающихся рассматриваемого вопроса, А.С. Нилогов только один раз использует слово «арго». Между тем М. Халлидей, который ввел термин «антиязык», имел в виду прежде всего арго (англ. Cant) [25]. Возможно, А.С. Нилогов подразумевает под антиязыком что-то иное, футуристическое. На это указывает В.А. Кутырев, замечая, что в исследованиях А.С. Нилогов делает упор на раскрытие «не столько того, какой он <язык> феномен сам по себе, сколько: что у автора за ним… стоит» [26]. В.А. Кутырев также высказывает предположение, что в силу самоотрицающего характера у феномена, возможно, вообще не может быть никакого значения. Остается лишь бессознательное переживание бытия, выраженное в антиязыке. Полагаем, что оба автора в полной мере не разрешили обозначенную проблему. Ни сам термин, ни его референт не стали для читателей ближе и понятнее, хотя это, вероятно, входило в замысел исследователей.
Необходимо выяснить, насколько претензия на то, что во всей истории философии произошел очередной «переворот», обоснованна. Для этого целесообразно рассмотреть понятие «антиязык» в феноменологической перспективе, определив, в каких отношениях это явление находится с классическим и искусственными языками. Важно сопоставить термин «антиязык» и его референт – сам феномен «антиязык», который за ним стоит. При этом мы опираемся на новую онтологию М. Мерло-Понти и его феноменологию языка.
Как уже отмечалось, антиязык существует столько, сколько существует сама культура. Определению специфики антиязыка, вероятно, может способствовать непрекращающаяся многолетняя лингвистическая дискуссия о происхождении этого явления. Д.С. Лихачев в статье «Черты первобытного примитивизма воровской речи» отмечает ведущую роль жеста, порой заменяющего слова в криминальной среде (при помощи жестов передаются буквы или целые слова), а также роль эмоциональной составляющей в речи представителей воровского мира [27, с. 61] ∗ . Наблюдение, касающееся жеста, отсылает к феноменологии языка М. Мерло-Понти. По мнению французского философа, жестовая речь соответствует мышлению первобытного человека, она отличается яркостью и выразительностью, но в то же время требует особого прочтения, подчеркивая табуизм тех или иных предметов и явлений, которые необходимо скрыть от окружающих. Роль жеста и сегодня сохранилась в разных проявлениях антиязыка. М. Мерло-Понти связывал жест с речью: «Речь – настоящий жест, и она заключает в себе свой смысл. Как жест – свой. Это и делает возможным общение. Чтобы я понял слова Другого, нужно, очевидно, чтобы его словарь и синтаксис были очевидны мне» [28, с. 240]. Безусловно, язык играет важнейшую роль в восприятии Другого, но он существует не сам по себе, а опосредован телесностью, в свою очередь, неразрывно связанной с текстурой плоти мира. Первичный контакт, в который оказывается вовлеченным человек, – это контакт с миром. Собственно говоря, такой контакт и есть изначальный праязык, предшествующий естественному языку. Мы видим, что язык обоснован, он происходит из мира и в конечном счете относится к миру. М. Мерло-Понти пишет о том, что взгляд на человека «останется поверхностным до тех пор, пока не отыщем под шумом слов предшествующую миру тишину, пока не опишем жест, который эту тишину нарушает» [29, с. 241].
Однако человек – существо не столько природное, сколько социальное, к тому же он – субъект культуры. В процессе социокультурного развития менялся способ его общения с Другим, себе подобным: от примитивных жестов и трудовых выкриков ∗∗ , где знак и его смысл совпадали, язык постепенно развивался по направлению к конвенциональности, становясь рафинированным и формализованным, в него с течением времени начинают вкрапляться речевые штампы, научные и философские понятия. Неудивительно, что такой язык может оказаться бременем для обычного человека, особенно для подростка, который стремится выплеснуть свои чувства наружу, выразить собственное «я», отличное от Другого. Видимо, поэтому молодежная среда легко воспринимает жаргонизмы и сама активно участвует в их создании, т. е. подростки часто прибегают к антиязыку, чтобы отличаться от взрослых или скрывать от кого-либо истинные намерения. Можно возразить Д.С. Лихачеву, считающему, что явление антиязыка, в частности воров-
∗ Д.С. Лихачев опирается на концепции К. Леви-Брюля, который «нашел бы немало классических образцов первобытного магического сознания у воров».
∗∗ Неслучайно перешедшее из английского языка междометие Wow («вау») быстро вытеснило русские «ого» и «ах». Поскольку именно междометия ближе всего стоят и к жесту, и к эмоциональной сфере, они легко переходят из одного языка в другой.
ского жаргона, преходящее: он «неминуемо должен исчезнуть с уничтожением причин, порождающих преступность» [30, с. 53]. Несмотря на прогноз известного филолога, антиязык продолжает существовать и находит все новые области применения. Этот пласт языка по-прежнему вызывает интерес как у лингвистов, так и у философов. Даже в ХХI столетии воровской жаргон служит неиссякаемым источником для пополнения молодежного сленга.
Следует признать, что антиязык отличается особой экспрессией, он патетичен и приподнят, что привлекает к нему различные пласты населения, начиная от подростков и заканчивая взрослыми людьми разных возрастов. Арго – своеобразная лингвистическая лаборатория или даже коллайдер, в котором происходит интенсивный процесс словообразования, что обеспечивает дополнительные возможности для изучения истоков языка. Итак, регрессия в случае с арго, конечно, имеет место, хотя к одному только упрощению языка проблема антиязыка не сводится. На это указывал и М. Халлидей, полагавший, что антиязык может быть как «низким», так и «высоким», ведь язык литературы – это тоже своего рода антиязык [31]. Кроме того, язык любого крупного писателя отличается от общепринятого и доступен пониманию далеко не каждого. Примером антиязыка высокого стиля могут также служить дзен-буддистские коаны, сравнительно недавно ставшие предметом изучения в данной плоскости. Общим во всех проявлениях антиязыка выступает то, что в их рамках происходит некая игра не по правилам с целью выразить свою самость, разделить людей на своих и чужих, непосвященных ∗ .
Таким образом, много различных явлений объединяет феномен антиязыка: арго, коаны, новаторство литераторов, язык интернет-сообществ и др. Это Ничто, которое превращается во Что-то, как только попадает в обычный язык. Важно определить, в чем сущность этих на первый взгляд разнородных антиязыковых явлений. Если искусственный язык потенциально открыт, то антиязык всегда закрыт. Вероятно, главная его черта состоит в том, что в нем задействован код, отличающийся от кода традиционного языка, который принят обществом в качестве образца. Знание этого кода отделяет носителей антиязыка от остальных, непосвященных. При этом носители языка всегда «двуязычны», поскольку они, как правило, прекрасно владеют естественным языком. Антиязык формируется посредством релексикализации на базе слов традиционного языка.
Еще одно характерное свойство антиязыка (вероятно, именно оно выступает основополагающим) заключается в том, что он помогает «отверженным» представителям социума находить свое место под солнцем, т. е. ресоциализироваться. Значение этой функции подчеркивает в программной статье М. Халлидей [32]. Однако возникает вопрос: насколько все это применимо к деятельности писателей, философов, религиозных мистиков? В данном случае все они находятся в противостоянии с социумом и его нормами, порой испытывая потребность в тайноречии (например, в случае преследования со стороны официальной церкви и государства). По мнению австралийского лингвиста, в пределе антиязык стремится полностью отпочковаться от основного языка и стать чем-то отдельным. В реальности, вероятно, такого никогда не происходит, потому что антиязык, как уже отмечалось, – это язык в языке. Поэтому, прежде чем окончательно погрузиться в антиязыковую бездну, необходимо выяснить, что сегодня происходит с языком и с нами, его носителями.
Атмосферу, в которой мы живем и в которую язык оказался вовлеченным, можно назвать, используя удачное выражение М. Кронгауза, турбулентной средой перманентного «нервного срыва». В то же время лингвист отмечает, что «язык, который существует в меняющемся мире и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию… Мы не сможем говорить на нем об этом мире просто потому, что у нас не хватит слов» [33, с. 8]. Средств языка иногда недостаточно для точного и убедительного выражения мыслей. Следует выяснить, чем вызваны сегодняшние изменения в языке: массовым характером коммуникации, невероятным объемом информации, частичным погружением в виртуальную среду. Как указано ранее, М. Мерло-Понти в поздней онтологии подчеркивал, что традиционное общение всегда опосредовано телесностью, т. е. пребыванием, нахождением собеседников лицом к лицу, при подобном общении очевидна социальная и индивидуальная ценность человека. Теперь ту часть нашего «я», которая находится по другую сторону «реального» жизненного мира, называют «телом без органов», «второй самостью», ее также можно поименовать «фантомным телом», т. е. мнимым, ложным, несуществующим. Возможно, антиязык – это грубая ткань, заполняющая собой точки разрыва в структуре языка, тем самым восстанавливая коммуникационное поле – пространство общения. К тому же граница между нормой в языке и ее отсутствием в нынешнюю эпоху постмодерна представляется расплывчатой, слова перекочевывают из одного стиля в другой, молодежным жаргоном пользуются зрелые люди, в речи происходит своеобразная диффузия между естественным языком и его производными. Тем не менее возникают новые границы и преграды. Для того чтобы получить доступ
∗ Примеры антиязыка: звездный язык В. Хлебникова, живопись абстракционистов.
к ресурсам, необходимо знание кодов, логинов и паролей. Неудивительно, что лингвисты регистрируют появление в обществе все новых антиязыков с новыми антикодами: язык фидо-сооб-щества, олбанский и др., поскольку не всем нравится повсеместная навязчивая прозрачность.
Итак, антиязык – своеобразный индикатор социального неблагополучия. Он существует длительное время, возможно, является ровесником цивилизации, помогает маргинальным группам населения найти ресурс для ресоциализации. Видимо, в языке заложена способность не только генерировать смысл, но и кодировать, скрывать его. Эта черта делает его схожим с искусственными языками, в том числе языком науки – математики, которая порождала и порождает все новые виды криптографии. Причем такой код может быть санкционирован со стороны общества, например в работе разведки или деятельности спецслужб, или, наоборот, подвергнут стигматизации, если его носители – криминальные антиобщественные элементы. Однозначная социальная оценка этого явления вряд ли возможна. Разумеется, использование молодежью тюремно-блатного жаргона не вызывает положительных эмоций. Вместе с тем обращение группы лиц к антиязыку как средству самосохранения в условиях слежки тоталитарного режима выглядит вполне оправданным.
Судьбы языка и антиязыка неразрывно связаны, и в кривом зеркале антиязыка отражается все тот же мир, который иногда безуспешно пытается отобразить язык естественный. Процессы, наблюдаемые в естественном языке, затрагивают и антиязыки. Границы естественного и искусственного языков подвижны, об этом свидетельствуют активное использование антислов в разных сферах жизни и речь людей, составляющих обособленные социальные группы либо объединенных общей профессией. Противостояние языка и антиязыка, возможно, может быть снято и преодолено при обращении к истокам языка, его первичным антропоонтологическим первоосновам. Словам и понятиям языка предшествовали экзистенциалы, в число которых М. Хайдеггер включает страх. Последний способен порождать, по его мнению, молчание, альтернативой ему может стать и тайноречие.
Проект А.С. Нилогова, направленный на генерирование антиязыка в качестве средства коммуникации философии, на наш взгляд, представляет собой своеобразную антиязыковую игру. Между тем задача философии серьезнее: поиск истины, смысла. Философия – это тоже один из языков. В крайних формах он малопонятен для неподготовленной аудитории. Язык философии также в какой-то степени обогащает естественный язык. Это касается и отдельных его носителей, например И. Канта, Г. Гегеля, с трудом воспринимаемых непосвященными. В свою очередь, естественный язык – порождение плоти мира и присущей ей отражающей способности. От него вряд ли удастся отказаться. Во любом случае это противоречило бы феноменологии языка М. Мерло-Понти, исходящей из принципа обратимости. Разъясняя свои мысли об обратимости, философ отмечает, что всякое восприятие того или иного явления удваивается посредством «противо-восприятия» и выступает двуликим актом [34]. Для восприятия вещи в полном объеме необходимо сложение двух монокулярных взглядов. Так же человек в одиночку не может объять взглядом ту или иную проблему, найти правильный ответ на тот или иной вопрос. Для этого нужны минимум два человека, два взгляда, два существования, два экзистенциала.
Целесообразно вспомнить принцип обратимости Ж. Дерриды, который уравнивает письмо и речь. Трансцендентальное означаемое оказывается у него «первичным знаком» [35]. Речь для него является знаком знака – вторичной системой. Из этого постулата исходит в исследовании и А.С. Нилогов. В свою очередь, М. Мерло-Понти решительно отдает приоритет речи. Он отталкивается от идеи «первичного контакта» с миром. Что касается языка, из латерального отношения знака к знаку, сохраняющего каждый из них означивающим, следует, что смысл зарождается только в точке их соприкосновения, в интервале между словами. Речь через телесность, по М. Мерло-Понти, имманентно связана с плотью мира, имеющей «зеркальную природу», при этом знаки играют «лишь роль уведомителей» [36, с. 47]. Ось «субъект – тело – плоть» обратима, «смысл – это целостное движение слова» [37, с. 48]. Такое обратимое движение возможно только в живой речи. Означаемое и означающее – это не две параллельные линии, как у Ф. Соссюра. Они могут пересекаться, образуя «складки». В точке схождения происходит радикальная трансформация общепринятого смысла. Одной из таких точек-«складок» и оказывается антиязык. В сборнике работ «Знаки» французский философ отмечает, что первейшей задачей философии по отношению к языку выступает раскрытие нашей принадлежности «к определенной языковой системе, которой мы всеми силами служим» [38, с. 117–118]. На наш взгляд, данное заявление очень важно, поскольку язык свидетельствует о принадлежности человека той или иной общности: нации, семье, культуре. Это касается прежде всего естественного языка. Антиязык универсален, безлик. Чтобы доносить до человечества мудрость веков, поколений, философ должен виртуозно владеть классическим языком, используя его самые тонкие струны. По словам
М.К. Мамардашвили, философия трансформирует язык изнутри, создавая особую «философскую грамматику». Б.В. Марков считает, что «язык имеет самый широкий спектр значений и оценок. В нем видят божественное начало и тайну» [39]. Поэтому разгадать тайну языка непросто, решить его при помощи очередного языкового переворота, на наш взгляд, невозможно.
В одной из работ М. Мерло-Понти пишет: «Беря язык как свершившийся факт, субстратный остаток прошлых актов обозначения и регистрацию уже приобретенных значений, ученый неизбежно упускает из виду собственную ясность и плодотворную изобильность экспрессивного проговаривания». Далее философ замечает, что с феноменологической точки зрения, т. е. для говорящего субъекта, который пользуется языком как средством коммуникации с живым сообществом, язык вновь обнаруживает свое единство. Он уже не результат хаотического прошлого независимых лингвистических фактов, а система, все элементы которой конкурируют, предпринимая уникальные усилия для того, чтобы выразить нечто, обращенное к настоящему или будущему [40, с. 180].
В результате исследования можно сделать некоторые выводы. Бесспорно, язык не сводится к системе, словарному запасу и речи, он восполняет изначальную неполноту индивидуального человеческого бытия, однако он способен не только открываться навстречу Другому, но и закрывать свои створки и двери для чужого, непосвященного. Безусловно, заслуживают внимания взгляды на явление антиязыка как А.С. Нилогова, так и В.А. Кутырева. Вместе с тем следует признать, что антиязык без естественного языка самостоятельно существовать не может. На естественном языке основано обучение ребенка в семье и школе. Опыт эсперанто показал, что искусственным языкам вряд ли когда-нибудь удастся заменить подлинный язык. Очевидно, что это касается и любого из антиязыков. Информатизация делает использование антиязыка актуальным, однако и она не может полностью исключить язык естественный. Усилия постмодернистов по преодолению логоцентризма могут иметь печальные последствия для философии и ее языка. Став нефилософией, антифилософией, философия вряд ли будет востребована, поскольку эту нишу уже занимает язык литературы и искусства.
Безусловно, сама постановка проблемы о роли антиязыка в обществе важна, полагаем, что это первый шаг в правильном направлении, но нужны и дальнейшие действия: необходимо найти онтологические основания антиязыка в бытии, прежде всего в бытии социальном. Между тем вопрос «Быть или не быть?» применительно к языку отнюдь не риторический. Возникновение языка неразрывно связано с обществом, язык глубоко социален. Антиязык способствует обособлению и даже изоляции, но в конечном счете он выполняет функцию ресоциализации (релекси-кализация уже вторична), на что указывал и М. Халлидей, а значит, и своеобразной адаптации человека, если не в социуме, то в окружающем мире. С этим феноменом до сих пор по тем или иным причинам не смогли справиться ни общество, ни классический язык, хотя, вероятно, должны были это сделать. Это еще одна проблема, которая ждет разрешения. Если язык писателей, с точки зрения М. Халлидея, – род антиязыка, то и язык философии, видимо, в какой-то степени является таковым. В информационном обществе философ иногда воспринимается как маргинал, говорящий в определенных ситуациях на ином, своеобычном языке. В таком случае язык философии – это уже в известном смысле антиязык.
Список литературы К проблеме онтологии антиязыка: опыт феноменологической интерпретации явления
- Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие : статьи и выступления. М., 1993. С. 192-220.
- Нилогов А.С. Дискурс антиязыка (от философии языка к философии антиязыка) // Гуманитарные науки. 2015. № 2 (30). С. 118-124.
- Нилогов А.С. Философия языка/антиязыка Людвига Витгенштейна // Философия и культура. 2017. № 2. С. 81-96. https://doi.org/10.7256/2454-0757.2017.2.16789.
- Нилогов А.С. Концепция «неявного знания» Макса Полани как предчувствие философии антиязыка // Философская мысль. 2017. № 3. С. 12-35. https://doi.org/10.7256/2409-8728.2017.3.18684.
- Гиренок Ф.И. Исход к искусству археоавангарда [Электронный ресурс] // Хронос. 2002. URL: http://www.hrono.ru/li-bris/lib_g/girenok_ishod.html (дата обращения: 28.07.2021).
- Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999. 191 с.
- Кутырев В.А. Последнее целование. Человек как традиция. СПб., 2015. 430 с.
- Рикёр Поль [Электронный ресурс] // Словари онлайн. 2020. URL: https://rus-culture-enc.slovaronline.com/1339-РИКЁР (дата обращения: 28.07.2021).
- Браточкин А. Краткое руководство по «антиязыку» [Электронный ресурс] // Гефтер. 2013. 1 нояб. URL: http://gefter.ru/archive/10443 (дата обращения: 28.07.2021).
- Архангельский А. «Язык политизируется там, где отсутствует политика». Андрей Архангельский беседует с филологом Михаилом Эпштейном // Огонек. 2012. № 51. С. 20.
- Гюго В. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3. М., 1988. 559 с.
- Шилов С.Е. Антиязык как он есть [Электронный ресурс] // LiveJournal. 2010. 5 янв. URL: https://sergey-shilov.livejour-nal.com/17562.html (дата обращения: 28.07.2021).
- Шарандина Н.Н. О некоторых функциях арго // Культура речи и образование : сборник материалов регионального научно-методического семинара. Тамбов, 2007. C. 171-177.
- Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго: 27 000 слов и выражений. М., 2003. 1119 с.
- Грачев М.А. К проблеме создания словаря криминальных кличек // Проблемы истории, филологии, культуры. 2009. № 2 (24). С. 531-535.
- Бондалетов В.Д.: 1) Социальная лингвистика : учебное пособие. М., 1987. 160 с. ; 2) Условные языки русских ремесленников и торговцев / под ред. Ф.П. Филина. Рязань, 1974. 109 с.
- Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика / сокр. пер. И.А. Мельчука // Структурализм: за и против : сборник статей. М., 1975. С. 193-230.
- Лихачев Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Язык и мышление. 1935. № III-IV. С. 47-100.
- Цит. по: Зубкова Л.Г. Эволюция представлений о Языке. М., 2015. 760 с.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика : пер. с фр. М., 1974. 448 с.
- Shi Baihui, Li Fengjie. The Analysis of Anti-Language from the Perspective of Current Situation of Netspeak // International Journal of Language and Linguistics. 2017. Vol. 5, no. 2. P. 50-56. https://doi.org/10.11648/j.ijll.20170502.14.
- Orchard H.C. Courting Betrayal: Jesus as Victim in the Gospel of John. Sheffield, 1998. 293 p.
- Lefkowitz N., Hedgcock J.S. Anti-Language: Linguistic Innovation, Identity Construction, and Group Affiliation among Emerging Speech Communities // Multiple Perspectives on Language Play / ed. by N. Bell. Washington, 2017. P. 347-377. https://doi.org/10.1515/9781501503993-014.
- Talking History: International Oral History Conference / ed. by D. Koleva. Sofia, 1999. 256 p.
- Halliday M.A.K. Anti-Languages // American Anthropologist. 1976. Vol. 78, no. 3. P. 570-584. http://doi.org/10.1525/aa.1976.78.3.02a00050.
- Кутырев В.А. О лингвистической контрреволюции, ее причине и постчеловеческих перспективах (размышления над книгой А. Нилогова «Философия антиязыка». СПб.: «Алетейя», 2013) // NB: Филологические исследования. 2013. № 3. С. 1-27. http://doi.org/10.7256/2306-1596.2013.3.10077.
- Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 61.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / под ред. И.С. Вдовиной. М., 1999. 608 с.
- Там же. С. 241.
- Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 53.
- Halliday M.A.K. Op. cit.
- Ibid.
- Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2013. 232 с.
- Кириллов Г.М. Поиски логоса: между тьмой и светом // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, № 3. С. 262-267. http://doi.org/10.18500/1819-7671-2016-16-3-262-267.
- Цит. по: Сусоев М.В. Постнеклассическая теория знака: возможности для развития и интерпретации // Эпистемы : альманах. Екатеринбург, 2004. С. 31-37.
- Мерло-Понти М. Знаки. С. 47.
- Там же. С. 48.
- Там же. С. 117-118.
- Марков Б.В. Философия языка // Метафизические исследования : альманах. СПб., 1999. Вып. 11. C. 9-45.
- Мерло-Понти М. О феноменологии языка / пер. с фр. В.М. Рыкунова // Логос. 1994. № 6. С. 179-193.