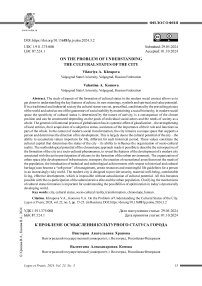К проблеме осмысления культурного статуса города
Автор: Храпова В.А., Комова В.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Изучение аспектов формирования культурного статуса в современном социальном контексте позволяет приблизиться к пониманию ключевых особенностей культуры, ее новых смыслов, символов и духовно-ценностного потенциала. Если в традиционном и индустриальном обществе культурный статус был задан, предписан, обусловлен господствующей картиной мира и выступал одним из гарантов социальной стабильности, поддерживая социальную иерархию, в современном социальном пространстве специфика культурного статуса обусловлена характером активности, является следствием избранной позиции и может быть сконструирована в зависимости от целей отдельных социальных субъектов и потребностей общества в целом. Общецивилизационный процесс глобализации имеет своим системным эффектом глокализацию - усиление локальных образований, обретение ими субъектного статуса, осознание значимости их роли и функций в составе целого. В условиях современной социальной трансформации город остается уникальным пространством, поддерживающим человека и определяющим направление его развития. Во многом это связано с культурным потенциалом города - способностью аккумулировать важные для жизнеустройства ценности, разные для каждого исторического периода. Эти ценности составляют культурный капитал, определяющий статус города - его способность влиять на организацию социокультурной реальности. Методологический потенциал хронотопического подхода позволил описать ретроспективу становления города как социокультурного феномена, раскрыть особенности развития современного города, связанные с активным участием горожан в формировании городской среды. Организация городского пространства (развитие инфраструктуры, транспорта, создание отвечающих запросам населения рекреационных зон, внедрение технических и технологических достижений при бережном отношении к историко-культурному наследию) может стать «мягкой силой» управления, создать ресурсы и смысложизненные ориентиры для человека в усложняющемся рискогенном мире. Современный город призван обеспечить безопасность, материальное благосостояние, комфортное проживание, эффективное развитие, невозможное без актуализации культурного потенциала. Все это становится возможным при со-участии административной элиты и городского населения. Прояснение механизмов формирования культурного статуса города значимо для понимания возможностей оптимизации в современном динамично развивающемся мире.
Город, культурный статус, социокультурная реальность, трансформация, хронотоп, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/149147466
IDR: 149147466 | УДК: 1.911.375:008 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.3.2
Текст научной статьи К проблеме осмысления культурного статуса города
DOI:
Цитирование. Храпова В. А., Комова В. А. К проблеме осмысления культурного статуса города // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 15–25. – DOI:
В современном медийном пространстве ведется активная борьба за статусы городов. Конкуренция, связанная с дефицитом экономических и сильных в профессиональном плане человеческих ресурсов заставляет искать стратегию презентации, которая бы выгодно отличала город, отражая его уникальные преимущества. Как отмечает организатор симпозиума по имиджелогии Е.А. Петрова, инвестиционная привлекательность современного города достигается через создание позитивного отношения к нему [Петрова 2004]. Позитивная атмосфера, связанная с утверждением важных для повседневной жизни смыслов, решений, практик становится основой доверия горожан и гостей города. А.В. Ульяновский заметил, что если имидж является образом потребности, сформировавшейся в обществе, то с реализацией потребности связана определенная жизненная позиция. В позиционировании заложен потенциал воплощения потребности, то есть позиция должна устанавливаться с учетом прогнозов относительно социально- экономических тенденций развития общества и быть залогом успешности городского населения [Ульяновский 2005]. Атмосфера города как непосредственное отражение социальных амбиций должна быть не просто надежной для бизнеса и комфортной для проживания, но и аккумулирующей в себе социально значимые ценности, связанные с уникальностью геополитического и культурного контекстов.
Как заметил С.В. Пирогов, «реальность наших представлений и бесконечность жизненных планов возникают не самопроизвольно, а как результат нашего отношения к тому, что мы имеем, к тому, что нас окружает, в процессе о-своения, о-владения нами имеющихся возможностей удовлетворения потребностей и реализации желаний и целей. Наше сознание носит реляционный характер. Из окружающей реальности мы выделяем значимые и актуальные для нас фрагменты – релевантные (имеющие непосредственное и важное отношение) тому жизненному миру и той жизненной ситуации, в которых находимся мы сами и которые мы разделяем с некоторыми другими или они разделяют с нами. Город – это предмет нашего сознания-о-нем и нашего отношения-к-нему» [Пирогов 2011, с. 32–33].
Исследования К. Линча показали, что образ местности в сознании проживающего на ней человека становится стратегически важным, установочным для фундаментальной заложенной в менталитете матрицы пространства, удерживаемой в подсознании и неявным образом участвующей в формировании когнитивных способностей и процессах интерпретации информации. Образ территории совместного проживания становится источником символов и коллективных воспоминаний, на основе которых строятся социально важные мифы. Позитивные образы дают ощущение эмоционального комфорта, способствуют нарастанию интенсивности переживания экзистенциального и социального опыта. Устойчивые представления об общем пространстве проживания, закрепленные в менталитете людей, обладают интеграционной силой [Линч 1982].
Методологически значимым в данном исследовании является понятие «хронотоп», фиксирующее закономерную связь пространства и времени. Как известно, понятие хронотоп обретает свое методологический статус в литературоведческих исследованиях М.М. Бахтина, рассматривавшего время-пространство как формально-содержательную категорию, имеющую сюжетообразующую, изобразительную и, главное, определяющую образ человека в литературе функции [Бахтин 1975, с. 253]. Бахтин писал: «Только ценность смертного человека дает масштабы для пространственного и временного ряда: пространство уплотняется как возможный кругозор смертного человека, его возможное окружение, а время имеет ценностный вес и тяжесть как течение его жизни... Уничтожим масштабы жизни смертного человека – погаснет ценность переживаемого: и ритма, и содержания» [Бахтин 2003, с. 60]. «Бытие героя в романе невозможно вне пространства и времени: взаимосвязь пространственно-временных координат открывает возможность совершать поступки, перемещаться, взаимодействовать с другими героями и объектами. В художественной реальности хронотоп представляет собой слияние элементов пространства и времени в образное целое, ставшее результатом взаимодействия познавательной, оценочной и художественно-эстетической работы автора, решающего творческие задачи. Пространство и время наполнены специфическим содержанием. Время сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [Бахтин 1975, 253]. При этом Бахтин обратил внимание на то, что кроме хронотопа произведения существует хронотоп читателя. Читатель участвует в воссоздании описываемого в тексте мира, его не номинальном, а реальном присутствии в «здесь-и-сейчас» разворачивающемся континууме смыслов.
Термин «хронотоп» использовал психолог В.П. Зинченко имея ввиду связь «функционального пространства» и «функционального» или исторического времени [Зинченко 2002]. Идею хронотопа также имел ввиду П.А. Флоренский, когда писал, что «рост, жизнь делает время, а не время движет жизнь. Следовательно, процессами жизни должно измерять биографическое время, а не временем – процессы биографического роста» [Флоренский 1999, с. 477].
Современная философия предлагает хро-нотопический подход как способ постижения смысла человеческого бытия. Смысл есть результат о-своения человеком «здесь-и-сейчас» осуществляющегося бытия, момент понимания своей роли, осознания ценностного статуса со-бытия в конкретных пространственновременных условиях.
У человека нет алиби в бытии, он находится в моменте свершения, накануне поступка. Пространство и время задают параметры для будущего действия, выступают фоном, на котором разворачиваются события настоящего. Время создает историю. Пространство сохраняет результаты выборов, связанных с конкретными предпочтениями. Каждая эпоха создает свой уникальный контекст, только ей свойственные «правила игры». Идея хронотопа в науке позволяет исследовать закономерную связь сознания, времени и пространства, в исследовательском поле современных гумани- тарных наук хронотоп понимается как методологический принцип, позволяющий раскрыть культурно-историческое время-пространство.
А.А. Пелипенко предложил смыслогенетическую концепцию культуры. Согласно этой концепции, смысл формируется в момент осознания человеком своей роли в пространстве и является минимальным квантом культуры, которая представляет собой самораз-вивающуюся самоорганизующуюся силу, обладающую направленной функциональностью [Пелипенко 2012]. При этом время первично, оно задает ритм, раскрывающийся в истории выборов, отношений и результатов действий, составляющих конфигурацию пространства. Время и пространство оказываются фоном, на котором выстраивается социальность, разворачиваются события настоящего, становятся устойчивыми практики, закрепляются традиции, коллективное сознание, основы общественной психологии, ментальность. Культурный смысл выполняет негэнтропийную функцию, обеспечивая самосохранение и развитие человека и общества. Культурный хронотоп отражает специфику работы сознания, имеющей негэнтропийный эффект. От этой работы зависит культурный статус, следовательно, культурный статус можно рассматривать как позицию, с которой связана мера конкретных действий, обеспечивающих самосохранение и развитие человека и общества.
Город возникает исторически, выделившись из деревни как первичной, естественным образом (спонтанно) сложившейся общности, приспосабливающейся к определенным природно-территориальным условиям. Пространство города локализовано в конкретном географическом ареале, формируется в активном взаимодействии с природным ландшафтом под влиянием климатических факторов. Природа становится частью городской среды, элементом городской эстетики, сила стихий «приручается и одомашнивается». Относительно однородное пространство (социальное, экономическое, геополитическое, культурное) «взрывается», когда появляются точки роста – города как результат целенаправленной организующей активности большого количества людей. «Преимущества городского образа жизни перед сельским делают этот ход развития необратимым» [Скоробогацкий 1999 web].
«Возникновение города – это изначально “выгораживание” пространства, живущего по своему собственному времени. Городская жизнь начинается с размыкания кругооборота календарного цикла сельского человека, привязанного к природным ритмам» [Ромашко 2002 web]. С.А. Ромашко рассуждает: «Город обычно рассматривают как структуру пространственную. А ведь всякий настоящий город – это еще и особая хронологическая конструкция, это ось, пронизывающая вращение времен, утверждающая город как бытие особого рода. На эту ось и наматывается пространственная структура, которую можно читать, словно годовые кольца на распиле древесного ствола. Устойчивость города во времени не только позволяет выстроить его особую топографию – благодаря ей и складывается городская среда, то самое с трудом поддающееся описанию, но вполне ощутимое настроение, которое присуще тому или иному городу, его атмосфера, его характер» [Ромашко 2002 web].
Древний город – замкнут. Это его ключевая особенность, связанная с потребностью безопасности. Внутри городских стен выстраивался укрепленный центр – замок, рядом с которым храм, здание городской управы, далее лабиринт улиц и переулков. Развитие городов сопровождалось интенсификацией и разделением труда, что отразилось на локализации поселений в зависимости от профессиональной специализации имущественного положения, социального статуса, властных полномочий. «Не имея возможности расшириться, город рос в высоту и вглубь – дома в несколько этажей и узкие улочки-переулки» [Новикова 2021, с. 15]. В центре на площади рядом с культовым сооружением строилась башня, на которой вывешивались городские часы. Жизнь определялась священным временем, регламентируемым сакральным порядком, который дополняло время повседневных мирских забот. Время древнего города не признавало личной автономии, действия должны были быть привязаны к традиции, вместе с тем ценность времени определялась целесообразностью и эффективностью общественного производства, смысл которого состоял в практической пользе.
Первые города становились центрами обмена сельскохозяйственными ресурсами и товарами ремесленного производства, в них сосредоточивалась власть, управляющая в соответствии с традицией, истоком которой была некая мифологическая схема, аккумулирующая в себе представление о природной силе и божественной мудрости, персонифицированной в лице основателя города. Идеализированное представление о носителе полномочий, возложенных священной волей, распространялось на обладателя центральной власти, имеющего неоспоримые преимущества в организации городского пространства. Социальный статус, соответственно и характер деятельности признавались следствием естественного хода событий, определялись условиями рождения, строго регламентировались. Статус города определялся мерой его влияния на окружающее пространство, дальностью действия управленческих стратегий.
Индустриальный город стал частью государственной системы. Имея четкие границы, он контролировался государственной властью, отвечая потребностям развивающегося общества. В городе концентрировались расширяющиеся и увеличивающие свою мощность производства, человеческие ресурсы, аккумулировался капитал и органы государственного и регионального управления, делегировавшие свои полномочия институтам образования, культуры, научным центрам, усложняющим и развивающим городское пространство. В городах развивалась политическая и общественная жизнь, cовершенствовалась система социальной коммуникации. Индивидуальные потребности и интересы соотносились с интересами коллектива и государства, как следствие, мышление людей становилось более рациональным и прагматичным. Вертикаль власти дополнилась обязательной регламентацией горизонтальных связей. Приоритетной нормативной системой, регулирующей отношения между людьми, стало право. Город-центр расширял свое влияние, вовлекая новые территориальные сегменты с целью получения прибыли. Стратегия городского населения – достижение благополучия, которое зависело от карьерного роста, отождествлялось с социальным успехом. Очарованный свободой, вдохновленный успехами естественных наук человек-творец искал универсальные ценности, которое раскрывались по мере освоения мира и были обусловлены индивидуальным выбором, развитием. Вариативность статусов городов в условиях развития многоплановой специализации увеличилась. Появились промышленные города, торговые города, города-порты, научные и военные городки, центры моды, кино, финансовых корпораций.
Административные и географические границы постиндустриального города – условность для развивающихся в нем производственных отношений. Производственная эффективность такого города определяется способностью создавать коммуникативные пространства. Город продуцирует виртуальные сети, распространяющиеся по мере разрастания интересов различных групп. Ф. Кук, характеризуя культурный проект, определяющий состояние постиндустриального города, пишет: «Модерн – это разновидность пространственно-временного опыта, обещающая приключения и преображение личности, одновременно угрожая разрушить знакомое окружение. Он рассекает географические, этнические, классовые, религиозные и идеологические границы, выступая как объединяющая сила, но одновременно расчленяя подобные основания для коллективной идентификации. И это ведет в конечном счете к выражению неуверенности, сопутствующей модерну, к вопросу, каким образом можно уберечь идеалы общественной солидарности и взаимопомощи, если любые новые социальные отношения размываются потоком модернизма, прежде чем они успевают обрести более или менее устоявшуюся форму?» [Кук 2002 web].
Постмодерн возникает как программа преодоления этих противоречий. Принципы, лежащие в его основе включают: рыночные отношения как к источник экономического успеха, ослабление государственной поддержки слабых сфер производства и несостоятельных в экономическом плане субъектов, отказ от солидарности в обществе, приоритет частного над общественным, «ослабление историчности перед лицом новых, ускоренных форм частной мимолетности; благоговение перед «новой техникой» как перед ключевой эмблемой новой мировой экономической системы». Это радикальная смена идеологии и практики со специфическими эффектами.
Производственная эффективность определяется способностью продуцировать виртуальные сети, выходящие за пределы традиционных рубежей. Следствием постмодернистской стратегии, сознательно поверхностной, ориентированной на новое пространство медийных, преимущественно визуальных образов, становится дезориентация. Итогом радикальной культурной переориентации должны стать новые познавательные ориентиры, соответствующие новым глобальным и локальным гиперпространствам [Кук 2002 web].
Современные города представляют собой сплав зачастую рассогласованных процессов и социальной гетерогенности, растекающихся в новых направлениях [Амин, Трифт web]. В условиях глобальной социальной трансформации состояние горожанина тревожно и неустойчиво. Его главный мотив и настоятельная потребность – экзистенциальная состоятельность. Цель – воспроизводство мира, стратегия – креативность, конструктивизм. Ценности – диалог, коммуникация. Средство – язык, дискурсы. Городская среда структурируется результатами индивидуальных поисков жизнеустроительных стратегий. Статус города в эпоху постмодерна во многом определяется его представленностью в коммуникативном пространстве и обусловлен динамикой происходящих в нем процессов.
Город – фон, на котором развиваются события жизни горожан. Его пространство – кристаллизация времени – воплощенная в городской среде история. Осмысленно закрепляемое, прошедшее испытанием времени содержание становится культурным капиталом. Культурный статус города – сложившаяся в нем ситуация, определяющая меру и степень возможности реализации потребностей людей.
С.А. Ромашко представил описание истории города как культурного феномена с позиций семиотического подхода [Ромашко 2002 web]. В качестве образа, аккумулирующего культурную специфику городского пространства, исследователь представил монумент – «градообразующий центр и временную ось города». Создание и поддержание «временной оси» требует определенных средств. Монумент был необходимостью, ценностью, фиксирующей устойчивость, экономическую и социальную со-стоятельность, а также незыб- лемость этих состояний во времени и пространстве. «На заре развития человеческого общества монумент – не только и не столько сооружение, сколько отметина, зарубка, разлом. В аморфном потоке появляется опорная точка, скрепа, вонзаемая во временную субстанцию, “напоминатель”, позволяющий распрямить круговорот бесконечного повторения и остановить убегающее, ускользающее время. Крепежный элемент должен быть надежным и прочным. Монумент должен быть видным и основательным» [Ромашко 2002 web].
С развитием европейского города монумент втягивался в городскую среду, становился непременной принадлежностью городского пространства, историческим памятником, отличительной чертой, достопримечательностью, которая привлекает туристов – в этом его новая функциональность – позволяя приобщиться к временной оси чужого города. Эмоции, связанные с обретением нового опыта переживаний, вызывают желание сохранить для себя воспоминание, увезти с собой образ, знак, копию. Предприимчивая рыночная среда реагирует созданием сувениров. «Сувенир – переносной монумент» [Ромашко 2002 web].
«Чем дальше, тем больше европейский город теряет вещественное основание своей временной оси. Сначала его лишили крепостных стен, затем ядро его временной конструкции, монументы, растащили на сувениры. В городе, ставшем экскурсионно-развлекательным учреждением, временная ось теряет свою определенность. Прошлое и современность переплетаются для удобства посетителей самым причудливым образом. Коль скоро субстанциальное ядро города распадается, исчезновение массивности компенсируется массовостью сувенирного производства: качество переходит в количество. За тиражированием сувенирных изделий стоит более основательное явление: как отмечал В. Беньямин, массовое производство начинает производить людскую массу. Людская масса становится несущей конструкцией современного города, в том числе и его временной оси. Технологичными и функциональными стали не только артефакты современной культуры – новые монументы, технологичной и функциональной (а не мифологической или идеологической) стала и сама временная ось» [Ромашко 2002 web].
По мере нарастания массы городского населения нарастает ее бесследность, несовместимая с необходимостью сохранения временной оси. Одновременно усиливаются разнообразные средства фиксации следов, играющих важную роль в поддержании структуры городской жизни. Тотальную временную ось современного города выстраивает система видеонаблюдения: видеозапись хранит время и обстоятельства каждого события. Так, по мнению, С.А. Ромашко, реализуется «техногенная монументальность города» [Ромашко 2002 web].
Таким образом, формирование статусов городов определяется стратегией освоения пространства и времени. В доиндустриальный период акцент делался на освоение физического природного пространства / покорение территорий. Эталон времени – вечность – утверждался традицией, определяя устойчивость общества. Система статусов имела жесткую структуру и не подвергалась изменениям. Абсолютной доминантой являлся столичный город, статус которого был связан с верховной властью. В обществе модерна центральной становится идея прогресса – времени, изменения, развития. Многоплановая отраслевая специализация «поглощается» идеей идеального будущего, поэтому несмотря оформившуюся специализацию городов приоритет по-прежнему имеет государственная столица, периферийные города не получают ресурсов для серьезного развития. Постмодерн совершается «здесь-и-сейчас». Расширяющиеся масштабы и увеличивающиеся скорости делают невозможными долгосрочные стратегии снимая значимость всего, кроме сиюминутной связи, случающейся коммуникации, порождающей сложность смыслового пространства. Эта ситуация принципиально открыта для оформления и актуализации множества статусов. В современном коммуникативном пространстве отчетливо прослеживается возрастание значимости столиц регионов, малых городов с их хозяйственной специализацией и культурной спецификой.
Если человек модерна уверенно утверждается в своем стремлении к идеалу – имеет основания, цель и гарантии, закрепленные государственной властью в соответствующих социальных институтах, то постмодерн ставит под сомнение любые ориентации. В глобализирующемся рискогенном обществе горожанин должен найти прежде всего экзистенциальную опору, и поиск этот не имеет временных или пространственных ограничений: в организующей социальную реальность коммуникативной сети на равных правах существуют прошлое, настоящее, виртуально-возможное. Город становится уникальной опорой: его материальная среда, инфраструктура и повседневные практики – исторически сложившееся пространство «здесь-и-сейчас» совершающейся жизни – аккумулирует опыт, способный воспроизводить экзистенциально значимые смыслы. Будучи центром максимального сосредоточения человеческих усилий по организации собственного бытия, город становится триггером, запускающим важнейшие механизмы становления человека и общества.
Городская среда создает контекст, в котором актуализируются потребности людей. Устойчивые формы реализации потребностей определяют качественное своеобразие городской культуры.
Человек является универсально-уникальным фактором обновления культурно-исторического процесса, главное внимание в этом процессе уделяется изначально-бытийному измерению человека, его «бытийной конституции» [Невелева 2001].
С одной стороны, человек является порождением своего города: его жизнь во многом зависит от политических и экономических обстоятельств, предоставляемых возможностей реализации, с другой – человек сам участвует в становлении города. С давнего времени прослеживается зависимость статусности города от влиятельности и активности руководства: имена великих городов неразрывно связаны с именами их правителей. Культурный статус каждого города в любой исторический период напрямую связан с ролью того или иного общественного или политического лидера.
Каждая эпоха порождает образы легендарных личностей – носителей ценностей, значимых и приоритетных для большинства. Через мифологизацию этих личностей происходит утверждение этих ценностей в общественном сознании.
Как писал П. Вайль, «связь человека с местом обитания загадочна, но очевидна...
Ведает ей известный древним гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой» [Вайль 2017, 9]. Деятельность известной личности может стать важнейшим фактором территориальной идентичности, формирования символического капитала территории. Концепт «гений места» отражает культурные связи, возникшие в результате взаимодействия исторической личности и определенного места, так или иначе связанного с этой личностью [Вайль 2000]: «...образная или символическая топография живет в нем [месте] действительными памятными локусами, перемещаемыми и размещаемыми воображением творца согласно строгим и необходимым законам метагеографического воображения» [Замятин, Замятина 2007, 64]. Существуют различные варианты связи «гения» и «места»:
– гений места как «общий предок»: ситуация, когда «бренд» известной личности глобально идентифицируется с данной местностью. Так, к примеру, образ Ермака ассоциируется с Тобольском;
– гений места как «дитя города». Иногда город взращивает своего Гения, а потом гордится результатами его деятельности. Примером могут служить все города, где родились и провели часть своей жизни известные люди;
– город как «дитя» гения. В этом случае памятные места города (а иногда и сам город) являются результатом деятельности определенной личности; когда достопримечательности города «базируются» на авторитете «Гения». Пример – Петр I и Санкт-Петербург [Замятин, Замятина 2007].
Во всех трех случаях образ городов напрямую связывается с гением места или даже определяется им, но ассоциативные представления, возникающие у наблюдателя, являются сугубо субъективными.
Между городским жителем и городом существуют взаимосвязи, не ограничивающиеся очевидными деловыми и бытовыми аспектами. Существует и определенная ментальная связь, прослеживающаяся в неких неутилитарных сопричастностях. Об этом в своих работах говорят многие исследователи: к примеру, Ч. Лэндри отмечает стремле- ние к пониманию «“горожанина как потенциала развития” города...» [Лэндри 2006, 97], подчеркивая тем самым, что город – не только место проживания человека, но и место его самоопределения, духовного роста и формирования адекватной самооценки. Комфортная городская атмосфера способствует созданию и поддержанию позитивных связей, дискомфортная же заставляет человека искать новые варианты организации своей жизни. Кроме того, город, стремящийся к самосовершенствованию, может стать не только местом выживания, но и спасения человека, местом поиска источника жизненной энергии и обретения человеком своей сущности [Денисов 2004], и такая позиция самым непосредственным образом выражается в его культурном статусе.
Итак, время, пространство и люди с их ценностями создают хронотоп города. Городской хронотоп – это городская повседневность: популярные публичные места, наиболее распространенные занятия местных жителей, исторические достопримечательности города, а также темп и ритм общественной жизни. Городской хронотоп существует как фон, на котором разворачиваются события настоящего. Он хранит в себе идентификационные значения, обладает интегративным потенциалом, является предпосылкой формирования городского капитала – ценностной составляющей городского пространства, определяющей качество жизни горожан и гостей города. Городская повседневность является стабилизирующим и оптимизирующим фактором, снижающим напряженность и риски, которые могут ожидать человека в динамично развивающейся социальной среде.
Кроме большого хронотопа города в сознании каждого человека складывается индивидуальный хронотоп, который зависит от условий проживания, профессиональной деятельности, уровня образования, индивидуальных личностных особенностей. В отличие от большого хронотопа малый хронотоп выстраивается в соответствии с экзистенциальной направленностью конкретного человека – его переживанием времени и освоением пространства. Переживания могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, но они всегда активизируют чувства и мышление, вызывают к жизни образы, определяющие состояние сознания. Места памяти, вобравшие в себя эмоциональный опыт, становятся активаторами значимых смыслов, характеризующих связь человека с городом, особым образом «кодирующих» пространство, обладающее ресурсным потенциалом.
Городская среда, поддерживая человека в повседневной жизни, может стать препятствием для индивидуальной реализации, личностного роста. Вместе с тем противоречия большого и малого хронотопов могут оказаться причиной изменения человека и преобразования городской среды.
Время и пространство – условия, в которых оформляются потребности человека, реализация этих потребностей создает новые условия, следствием чего оказывается изменение самого человека. Современные горожане активно включаются в организацию городского пространства, становятся инициаторами разнообразных градостроительных и социальных проектов, культурных мероприятий как традиционных, так и новаторских по своему содержанию и форме. Малый хронотоп города, связанный с внутренним состоянием личности, включающим в себя отношение к месту и времени, играет все большую роль. У современных городов появляется все больше возможностей сделать свое пространство самобытным и ярким. «Важнейшая задача любого города – выявить и научиться качественно эксплуатировать свои специфические возможности и ресурсы, определив себя как центр технологии, или финансов, или моды, или наследия. И, что более существенно, научиться адаптировать и применять творческие способности своих жителей к любым открывающимся возможностям и потребностям. В этом смысле города и конкурируют, и взаимно дополняют друг друга» [Лэндри 2006, с. 51]. Городская среда создает предпосылки для становления человека, а его эмоции, чувства и желания становятся импульсом для творческих проектов, встраивающихся в городскую повседневность. Так происходит превращение объективного городского пространства в живой, наполненный личностными смыслами, вызывающий чувство причастности, уважения, гордости, вдохновляющий жизненный мир. Сегодняшние города – это города-предприниматели, их культура и благосостояние во многом зависят от деятельности граждан, от их ценностных приоритетов [Невоструева 2010].
Каждый город хранит свою историю побед, достижений, значимых событий, увлекательных сюжетов. Большой городской хронотоп не совпадает с индивидуальным хронотопом, но, если он может предоставить возможности для развития, город обретает ресурсы в виде людей. Так происходит накопление не только материального, но и социального, духовного капитала. Поддерживаемая новыми социальными и культурными практиками, актуализированная городскими нарративами, оживляемая в сознании горожан, владеющих сакральными кодами городского пространства, история города может стать фактором оптимизации социальных взаимодействий в большом масштабе.
Культурный статус города определяется его способностью влиять на организацию социокультурного порядка, наличием культурного капитала. Культурный капитал – не постоянная величина, он трансформируется, определяется способностью поддерживать жизнеустроительные функции. Город, аккумулирующий в себе материальные, социальные, культурные достижения, способен предоставить ресурсы для самопределения, выработки жизненной позиции, определения направления пути.
Список литературы К проблеме осмысления культурного статуса города
- Амин, Трифт web – Амин Э., Трифт Н. Внятность повседневного города [Логос. 2002. № 3 (34)] // https://ruthenia.ru/logos/number/34/14.pdf
- Бахтин 1975 – Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975.
- Бахтин 2003 – Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1. М.: Рус. словари; Яз. слав. культуры, 2003.
- Вайль 2017 – Вайль П. Гений места. М.: АСТ: CORPUS, 2017.
- Денисов 2004 – Денисов С.Ф. Библейские и философские стратегемы спасения: антропологические этюды. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004.
- Замятин, Замятина 2007 – Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Гений места и город: варианты взаимодействия // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 62–87.
- Зинченко 2002 – Зинченко В.П. Человек в пространстве времен // Развитие личности. 2002. № 3. С. 23–50.
- Кук web – Кук Ф. Модерн, постмодерн и город [Логос. 2002. № 3 (34)] // https://ruthenia.ru/logos/number/34/15.pdf
- Линч 1982 – Линч К. Образ города. М.: Стройиздат,1982.
- Лэндри 2006 – Лэндри Ч. Креативный город. М.: Классика-ХХI, 2006.
- Невелева 2001 – Невелева В.С. Антропологический принцип в философии истории (от современности к истокам). Челябинск: ЧГАКИ, 2001.
- Невоструева 2010 – Невоструева К.Н. Городское культурное пространство как предмет исследования (на примере Перми): к постановке проблемы // Вестник Пермского государственного технического университета. 2010. № 3. С. 29–37.
- Новикова 2021 – Новикова О.В. Философия города: к проблеме человекомерности городского пространства // Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2021. № 2. С. 12–20.
- Пелипенко 2012 – Пелипенко А.А. Постижение культуры. Ч.1. Культура и смысл. М.: РОССПЭН, 2012.
- Петрова 2004 – Петрова Е.А. Имидж Москвы – имидж столицы России // Имиджелогия-2004: состояние, направления, проблемы: материалы Второго Междунар. симпозиума по имиджелогии. М.: Академия имиджелогии, 2004. С. 106–108.
- Пирогов 2011 – Пирогов С.В. Город как феномен культуры: когнитивный подход // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 2. С. 31–37.
- Ромашко web – Ромашко С.А. Монумент – сувенир – улика: временная ось мегаполиса [Логос. 2002. № 3 (34)] // https://ruthenia.ru/logos/number/34/08.pdf
- Скоробогацкий web – Скоробогацкий В.В. Провинция как проблема: исходные определения и модель исследования [Чиновник. 1999. № 3 (6)] // https://www.hse.ru/data/2009/12/10/1230280775/В.В.%20Скоробогацкий.%20Провинция%20как%20пробле..ределения%20и%20модель%20исследования.pdf
- Ульяновский 2005 – Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. СПб.: Питер, 2005.
- Флоренский 1999 – Флоренский П.А. Сочинения. В 4 т. Т. 3 (1). М.: Мысль, 1999.