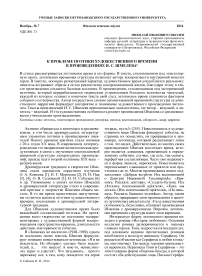К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелева
Автор: Соболев Николай Иванович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается летописное время и его формы. В тексте, стилизованном под эпистолярную прозу, летописная временная структура позволяет автору воспроизвести внутренний монолог героя. В текстах, носящих репортажный характер, художественное время уподобляется реальному: писатель встраивает образы в поток реалистично воспроизведенной жизни, благодаря этому в тексте произведения создается бытовая коллизия. В произведении, стилизованном под исторический источник, который перерабатывается творческим устремлением большого количества читателей, каждый из которых оставил в конечном тексте свой след, летописное время становится фактором соборного сотворчества. Автор посредством сложно организованной временной структуры художественного нарратива формирует восприятие и понимание художественного произведения читателем. Тексты произведений И. С. Шмелева принципиально монологичны, где автор - ведущий, а читатель - ведомый. И эта художественная особенность роднит произведения Шмелева со средневековыми учительными произведениями.
Летопись, эпистолярное произведение, репортаж, записки, воспоминания, соборность, жанр, нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/14750748
IDR: 14750748 | УДК: 801.73
Текст научной статьи К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелева
Активно обращаться к античным и средневековым, в том числе древнерусским, литературным элементам поэтики в произведениях писателей Нового времени критики стали начиная с 20-х годов XX века. В современном литературоведении это направление является весьма продуктивным в связи с изучением многоплановой жанровой структуры литературных произведений, прежде всего второй половины XIX века – рубежа веков.
Древнерусские традиции в творчестве Шмелева стали предметом серьезного изучения О. А. Комкова [1], Н. Г. Морозова [2], Н. И. Пак [3], [4], О. В. Селянской [5], Н. И. Соболева [6] и др. Упоминание о связях поэтики Шмелева и древнерусской литературы стало в современной критике о творчестве Шмелева общим местом. В то же время практически неизученными остаются аспекты поэтики художественного времени, восходящие к древнерусской литературной традиции.
Для Шмелева художественное время было важнейшей составляющей поэтики. На протяжении всего творчества он постоянно экспериментировал с художественной формой воспроизведения пространства-времени, длительности действия, повторяемости события.
В «Записках не писателя» (1948–1949), одном из последних своих текстов, Шмелев формулирует позицию повествователя-летописца: «Я и не мыслитель. Но ободряет: сколько было мыслителей, а… что вышло ! А мне-то, немыслите-лю, вдруг и удастся?.. Что загадывать… просто перескажу все, а там, кому попадется эта серая тетрадь, пусть!» (255)1. Повествователь в художественном мире Шмелева фиксирует события, не стремясь их осмыслить, он превращается в хроникера, летописца, который рассказывает лишь о том, что видел. Действительно, во многих своих произведениях Шмелев воссоздает время, которое является длящимся, привязанным к определенному событию, случаю, где есть, так сказать, перфектная составляющая. Часто оно выражается в форме записок, пересказов. Повествователь пересказывает слышанное от приятеля или прочтенное где-то. Многие произведения имеют подзаголовки: «Добрые встрѣчи. Изъ воспоминаній о Дмитріи Ивановичѣ Тихомировѣ»; «Пря-никъ. Разсказъ доктора»; «Солдатъ-Кузьма. Изъ дѣтскихъ воспоминанiй прiятеля», «Какъ мы летали. (Изъ воспоминанiй прiятеля)», «На пень-кахъ. Разсказъ бывшаго человѣка». Автор, таким образом, превращает свои произведения в цепочку летописных свидетельств. Эта художественная особенность, безусловно, сближает произведения Шмелева с древнерусскими. Впрочем, летописная временная структура имеет свои вариации.
Интересную форму летописного времени находим в романе «История любовная». Основная коллизия романа разворачивается в письмах главных героев. Тоня, подросток пятнадцати лет, под влиянием недавно прочитанных романов влюбляется в молодую женщину Серафиму. Он решается объясниться Серафиме в любви в письме, она отвечает. Так между героями завязывается переписка. Переписка Тони и Серафимы – это эпистолярная форма общения-беседы, в которой состоят оба действующие лица. Письма Серафи- мы серы, бесцветны, даже в чем-то примитивны. Каждое письмо Тони – это обращение к «прекрасной незнакомке». В каждом новом письме герой делает для себя художественные открытия, письма Серафимы – это лишь повод, чтобы поиграть в любовь, письма Тони перерастают во внутренний монолог о творчестве, о прекрасном. В своих посланиях Тоня пишет больше, чем мог бы сказать при личной встрече, – это душевный порыв, который в эпистолярной форме преодолевает преграды бытовой зажатости, косноязычия, преодолевает быт. Таким образом, читатель становится свидетелем становления в романе духовной реальности главного героя, которая определяет художественную доминанту произведения.
В повестях и рассказах «Человѣкъ изъ ресторана», «Солдатъ-Кузьма», «Какъ мы летали», «На пенькахъ», «Гасанъ и его Джедди» образ хроникера-повествователя до предела упрощает нарратив произведения, превращая его в репортаж: вот пример из рассказа «Гасанъ и его Джедди»:
– Ге, Ге! – одобрительно произнесъ онъ. – Хорошiй ты, барина… добрый барина… Гассанъ тебѣ будетъ сказалъ… все сказалъ… Ты давалъ руку Гассанъ… Никто не давалъ руку Гассанъ. Полицей ругалъ Гассанъ… Хозяинъ ру-галъ… всѣ ругалъ, ты одинъ не ругалъ…» (8)2.
Пример из «Гражданина Уклейкина»:
– Уклейкину почетъ-уваженiе! Отошелъ!... Клади имъ!...
– Предались!... Шпана!... Дар-рмоѣдъ!
– Сыпь! Жарь! Качай ихъ! Во-отъ!...
Толпа подвигается вмѣстѣ съ Уклейкинымъ къ “посту”.
– Достигну!... Сыщу!... Што?... Душ-ши!... Бюшники!.. Манжетники, черти!.. Што-о? Про-пущай!
Полицейскiй стоитъ, разставивъ руки, и слѣдитъ за Уклейкинымъ, точно играетъ въ коршуны.
– Ты лучше не шкандаль. Гуляй себѣ и не шкандаль!
– Пропущай!.. Слово хочу! (110)3.
Такая манера изложения позволяет детализировать повествование, придать героям художественную достоверность. Лексическое своеобразие нарратива поддержано и на синтаксическом уровне, изобилующем парцеллированными конструкциями. Эмфазы в парцелляциях придают речи героев спонтанность, естественность звучания, создают ощущение здесь и сейчас становящейся действительности, и, как следствие, повествование в целом становится более изобразительным и выразительным. В грамматике эта идея также нашла отражение, в частности в использовании аллеотета «настоящее повествования»: для изображения давно прошедших со- бытий автор использует грамматические формы настоящего времени.
Близкое следование или точное воспроизведение времени действия создает драматическую бытовую коллизию, позволяет Шмелеву вписывать образы в поток реалистично – до мельчайших деталей в быте и идиостиле героев – воспроизведенной жизни, давая возможность идее самой раскрыться в образе (что характерно для поэтики нового реализма).
Иную художественную перспективу имеет летописное время в повести «Неупиваемая Чаша». Сюжет повести представляет собой жизнеописание главных героев – Ильи Шаронова и Анастасии Вышатовой. О сокровенных моментах жизни героев читатель узнает из «Выписи изъ меморiи рода Вышатовыхъ, листъ 24» (91)4 и дневника Ильи, которые благочестиво, с уклоном в житийный жанр, пересказывает повествователь [5]. Благочестивый пересказ – это, в общем-то, один из способов создания художественной условности, где главенствующую роль выполняет образ повествователя. Итак, канва произведения складывается из последовательности эпизодов, рассказанных Ильей в дневнике, о которых повествователь узнал от читавших и воспроизвел их, осмыслив еще раз.
Таким образом, в тексте произведения создается художественная условность особого рода, когда конечный текст произведения становится плодом осмыслений, редактирований, переработок исторического источника, созданного творческим устремлением большого количества читателей, каждый из которых оставил в конечном тексте свой след. Это своего рода соборное сотворчество, придающее произведению летописный и в то же время легендарный характер. Этим автор достигает особого художественного воздействия: он сосредотачивает читательское внимание на смысловых доминантах текста, в частности на этапах духовного становления главного героя повести, Ильи Шаронова. В начале повести автор изображает героя носителем традиционно христианских православных ценностей – героем жития; затем житийный план повествования сменяется социально-романным: герой представлен подвижником идеи святости русского народа; в последней части повести автор воссоздает жанр церковного предания, в котором органично переплетены художественно правдивый рассказ о духовных метаниях главного героя с событиями из церковной истории.
Итак, автор посредством сложно организованной временной структуры художественного нарратива влияет на читателя, старается сформировать его восприятие и понимание художественного произведения. В этом смысле произведение И. С. Шмелева принципиально монологично. Автор создает художественную среду, которая не благодатна для идейного эксперимента, среду, где автор – ведущий, а чи-
К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелева
татель – ведомый. И эта художественная особенность роднит произведения Шмелева со средневековыми учительными текстами.
Выводы о структуре художественного времени согласуются с представлением о жанровом своеобразии произведений Шмелева, которые характеризуются жанровым синтетизмом, объединяющим самые разнообразные литературные традиции, среди которых доминирующую роль выполняет древнерусский литературный канон.
* Издается в рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
Список литературы К проблеме поэтики художественного времени в произведениях И. С. Шмелева
- Шмелев И. С. Свет вечный. Париж: Klincksieck, 1968. 348 с.
- Шмелев И. С. Гасан и его Джедди. М.: Юная Россия, 1917. 50 с.
- Шмелев И. С. Гражданин Уклейкин//Рассказы. СПб.: Знание, 1910. Т. 1. С. 109-224.
- Шмелев И. С. Неупиваемая Чаша//Литературный сборник Отчизна. Симферополь: Рус. книгоиздательство в Крыму, 1919. С. 89-147.
- Комков О. А. Образ иконописца в русской художественной традиции: («Запечатленный ангел» Н. С. Лескова и «Неупиваемая Чаша» И. С. Шмелева)//Вестник Московского университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. М., 2001. № 1. С. 118-134.
- Морозов Н. Г. Традиции святоотеческой духовности в повести И. С. Шмелева «Лето Господне»//Литература в школе. 2000. № 3. С. 26-31.
- Пак Н. И. Образы святых в романе И. С. Шмелева «Пути небесные»//Макариевские чтения. Можайск, 2002. Вып. 10. С. 355-359.
- Пак Н. И. Пути обретения России в произведениях Б. К. Зайцева и И. С. Шмелева//Литература в школе. 2000. № 2. С. 34-39.
- Селянская О. В. Художественный мир русского православия в повести И. С. Шмелева «Неупиваемая Чаша»//Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2001. С. 109-111.
- Соболев Н. И. Из творческой истории повести И. С. Шмелева «Неупиваемая Чаша»//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. Петрозаводск; М.: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 328-342. (Серия «Проблемы исторической поэтики». Вып. 10.)