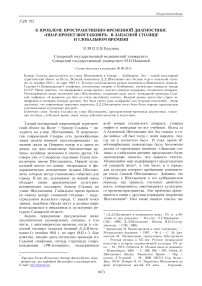К проблеме пространственно-временной диагностики: «Пиар-проект Шостакович» в запасной столице и глобальном времени
Бесплатный доступ
Бункер Сталина располагается на улице Шостаковича в Самаре / Куйбышеве. Это – самый популярный туристический объект на Волге. Великий композитор Д.Д.Шостакович жил больше года в «запасной столице» (с октября 1941 г. по март 1943 г.). В статье сопоставляются разные измерения куйбышевского периода. Седьмая («Ленинградская») симфония, исполненная впервые в Куйбышеве, значительно повысила имидж СССР. Менее известно, что выдающийся «пиар-проект» получил мощную поддержку сталинского аппарата. Рассматривается также маленький цикл Шостаковича, созданный сразу после легендарной премьеры Седьмой симфонии: «6 романсов для баса на стихи английских поэтов». Каждый романс цикла был строго зашифрован и посвящен близким друзьям. Это была своего рода «шифровка для будущих поколений». Автор заключает, что современные трактовки творчества Д.Д.Шостаковича могут быть более широко представлены в региональных культурных ресурсах.
Бункер сталина на улице шостаковича, пространственно-временная диагностика, "запасная столица", глобальное время, порог между действительностью и искусством
Короткий адрес: https://sciup.org/148101556
IDR: 148101556 | УДК: 792
Текст научной статьи К проблеме пространственно-временной диагностики: «Пиар-проект Шостакович» в запасной столице и глобальном времени
Самый посещаемый современный туристический объект на Волге – бункер Сталина – находится на улице Шостаковича. В антропологии современной Самары есть разнообразные знаки памяти военной «шостоковичианы»: памятные доски на Оперном театре и в одном из домов, где жил композитор; библиотечные архивы, музейные экспонаты и многое другое. Не говоря уже о Самарском отделении Союза композиторов имени Шостаковича, Первой музыкальной школе его имени, театральных и филармонических исполнениях музыки Шостаковича, которые всегда становились событием для города. И все же, подчеркнем: не всякий город обладает таким драматическим культурноисторическим коллажом: бункер Сталина на улице Шостаковича. Глобальное время прошло по самому центру «запасной столицы» – индустриального волжского города. С нашей точки зрения, подобные образы могут и должны шире использоваться в имиджевых и культурных ресурсах Самарской области.
Задачи, породившие предлагаемые ниже аналитические размышления, связаны, в том числе, с многомерностью времени, когда в «запасной столице» оказался великий Д.Д.Шоста-кович (с октября 1941 г. по март 1942 г.). Как известно, именно здесь состоялась премьера его Седьмой симфонии, отсюда стартовала сопровождающая «PR-компания», поддержанная
Бурлина Елена Яковлевна доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой философии и культурологи.
всей мощью сталинского аппарата, ставшая мифом и вошедшая во все учебники. Вслед за А.Ахматовой Шостакович мог бы сказать в годы войны: «Я был тогда с моим народом, там, где он к несчастью был». В тоже время Я-идентификация композитора была бесконечно далека от одномерных штампов. «Запасная столица» в глобальном времени представляет более многомерные сюжеты, чем принято считать. Меняющийся мир модифицирует представления об ушедшей эпохе1, в том числе, и о городе, для культуры которого пребывание композитора стало «эпохой Шостаковича». Добавим, что страницы о Шостаковиче в его куйбышевском периоде, как правило, упускают двойственность, компромиссы, многомерность культурного времени-пространства. Эти проблемы проясняются в связи с другими периодами творчества Шостаковича2. Нам также выпало счастье пи- сать о «белых одеждах», в которые вынужден был рядиться композитор, записавший многомерность бытия в нотах3.
В настоящей статье хотелось бы еще раз подойти к названным проблемам. Комментирование, толкование внутреннего и внешнего пространств культуры – один из методов темпоральной диагностики города, как считал выдающийся российский эстетик А.Ф.Еремеев, ссылаясь на М.М.Бахтина: «Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни, минимум бытия»4. Мы полагаем, что слияние сложных пространств, сходящихся как ручьи, речки в океан, – позволяет более глубоко понять прошлое и настоящее культуры. Рассмотрим в этом контексте культурное событие № 1 «запасной столицы», а также укажем на современные трактовки «эпохи Шостаковича», возможно, не до конца акцептированные в региональных культурных ресурсах. Почти весь ареал «куйбышевских» публикаций оказался вне принципиальной смены парадигмы, вне той резко сдвинувшейся границы идентификации, которую пережила в 1990-е годы «шостаковичиана».
О куйбышевском периоде Шостаковича написано большое количество статей и книг. Публикации делятся на три раздела. Можно выделить «куйбышевские первоисточники», описывающие детали военного быта «запасной столицы», репетиций Большого театра. Это свидетельства современников, в том числе, писателей Е.Петрова, А.Толстого, С.Аллилуевой, художника Н.Соколова, воспоминания родных композитора – детей, сестры; газетные статьи и информации военного периода. Куйбышевский период нашел также исследовательское отражение на страницах музыковедческих и исторических изданий: книги С.Хентовой и самарских авторов, включая научно-публицистические статьи В.Бацун, В.Иванова, В.Малько, Е.Цве-товой и многих других. Из одного издания в другое перекочевывают одни и те же цитаты, пересказы, адреса квартир, в которых жил Шостакович, перечень разнообразных форм его деятельности, анекдоты военного быта, вроде пересказанного М.Ардовым, Е.Петровым, М.Шостаковичем «о закрытии открытой столовой и открытии закрытой столовой»5. Все, что происходило и происходит с образом Шостаковича в меняющемся мире, не поколебало «куй-бышескую раму». За небольшими исключениями, к которым относятся публикации Н.Я.Эскиной, тонко и остроумно передающей не совместимость формальной «рамы» и трагических сочинений композитора, в том числе, и военных лет6.
Сложившаяся в 1940 – 1950-х годах «рама» Куйбышевского периода, с помощью самого композитора, его главного «пиарщика» довоенного и военного времени Алексея Толстого и всей сопутствующей пропагандисткой компании, невольно «отрезала» два важнейших источника. Во-первых, за пределами «рамы» оказался весь комплекс сочинений, созданных в Куйбышеве. А они – высоко значимы. Во-вторых, письма к друзьям, написанные самим Шостаковичем, оказались доступны только в 1990-е годы. Чувствуя себя в Куйбышеве вырванным из привычного круга общения, композитор писал много писем. Его эпистолярные тексты были ограничены условиями цензуры, но все же позволяли вести хронику, а он был исключительным, скрупулезным хроникером. Письма позволяли общаться с ближайшими друзьями, которым он бесконечно доверял. И.Соллертинский жил в эвакуации в Новосибирске, И.Гликман – с Ленинградской консерваторией был в Ташкенте, В.Шебалин и Л.Атовмьян жили в Москве. В это же время появляются принципиально новые российские и зарубежные издания, которые, как пишет М.Сабинина, позволяют совершенно иначе истолковать и понять многие поступки Дмитрия Дмитриевича7.
Повторим, что понимание времени и города, в котором он оказался в эвакуации, было у Шостаковича было далеко не одномерным, о чем свидетельствуют его куйбышевские письма к друзьям и, прежде всего, к И.Д.Гликману8. Выделим следующие показательные моменты. Для множества исторических региональных публикаций о Шостаковиче, характерно отсутствие границы и порога между чужими, заказными и собственными сочинениями, которые всегда сосед- ре». См.: «Самарское приношение. Д.Шостакович – 100 лет». – Самара; Дюссельдорф: 2006. – С. 100.
ствовали в его творчестве. Типичен такой перечень: в военном Куйбышеве была завершена Седьмая симфония – военный подвиг композитора, поддержанный всем прогрессивным человечеством. Кроме того, в Куйбышеве был написан еще ряд произведений, в скобках: (опера «Игроки», Вторая фортепьянная соната, сюита «Родной Ленинград», «Шесть романсов на стихи английских поэтов», музыка к спектаклю ансамбля НКВД «Отчизна», перерабатывал оркестровку оперы М.Мусоргского «Борис Годунов).
Упоминание через запятую неосознанно скрывает границу, которая лежит между собственными сочинениями и заказными индульгенциями. Нет комментариев: почему рядом с Седьмой Симфонией композитор начинает писать в военном Куйбышеве цикл – шифровку трагических романсов, посвященных ближайшим друзьям и трагически-исповедальную Вторую сонату. Что значила для Шостаковича, в военные годы работа над новой инструментовкой партитуры М.Мусоргского и завершением оперы любимого ученика В.Флейшмана. Наконец, требует соотнесения с военным контекстом и трагическая пародия – опера «Игроки» по Гоголю, повествующая о провинциальных шулерах. Что связывало гоголевскую фабулу «Игроков» о провинциальных карточных шулерах с военным временем?!
«Скоро победа и мы вновь заживем под солнцем Сталинской конституции» 9, – пишет он И.Гликману, маскируя как всегда страхи и предчувствия. Представлять премьеру Седьмой симфонии в «запасной столице» вне того, что было с ним в 1936 году и что произошло в 1949ом, – значит не понимать полифункциональности культурных пространств в «эпоху Шостаковича». Муки человека, выживающего в тоталитарном обществе, не покидали его и в дни блистательной, мировой премьеры в Куйбышеве. Есть версия, что вокруг премьеры гениального сочинения в Куйбышеве с самого начала создавалось то, что сегодня называют «пиаровской компанией». Иначе Седьмую симфонию не транслировали бы 5 марта 1942 года по радио как важнейшее информационное сообщение, не отправляли бы из Куйбышева ее партитуру на военных самолетах в Нью-Йорк или Стокгольм. Соломон Волков пишет, что это была пропагандистская кампания, а ее продюсер – Сталин10.
Справедливо, что это была крупнейшая культурно-политическое событие ХХ столетия. Но справедливо и другое. Гениальное произве- дение было «СО-БЫТИЕМ», совпадением и утешением душ. Премьера объединила всех. Сначала – музыкантов, потом Совинформбюро, потом – всех Послов иностранных государств, членов сталинского правительства, которые были эвакуированы в центр России, на берега Волги. Первые отклики – А.Толстого в «Правде», лондонской газеты «Таймс», позже американских журналов и газет – были не просто выполнением профессионального долга, но и выражением общего воодушевления и патриотизма. Эта ангажированность попала в хорошо отлаженную пропагандистскую машину, покатилась по стране, была раскручена за рубежом. Затронуты были и сотни тысяч сорванных войной людей, расселенных далеко от центра Куйбышева – на промышленной Безымянке, затерянных на заснеженном полустанке Белебее.
И вдруг рождается совершенно другое пространственно-временное измерение. Сразу вслед за Седьмой симфонией ровно в те дни, когда шли напряженные репетиции и стремительно готовились премьеры в разных городах страны и зарубежья, когда мир уже был оповещен о появлении «великого сочинения великого сына великого народа», Шостакович завершил вокальный цикл на тексты английских поэтов У.Ралея, Р.Бернса и В.Шекспира. В письмах к И.Соллертинскому, И.Гликману он информирует о новом сочинении и обсуждает посвящения. Каждый романс цикла композитор посвятил своим самым близким: жене, ближайшим друзьям – Л.Атовмьяну, И.Гликману, Ю.Свиридову, И.Соллертинскому, В.Шебалину. Самый первый романс – молитва об избежании участи быть повешенным – посвящен сыну Максиму, тогда 4-летнему ребенку. Дважды в письмах из Куйбышева от 22 ноября и 6 декабря 1942 года Шостакович сообщает об этом необычном сочинении и знаковом круге посвящений11.
«Шесть романсов для баса», op. 62 – это откровеннейшая исповедь и дневник. Отсюда тщательный выбор посвящений. О дневниковом выборе текстов говорит и то обстоятельство, что в военном Куйбышеве у Шостаковича оказались сборник переводов Б.Пастернака, изданный в 1940 году, и чудесные переводы С.Маршака. В музыкальном, философском, творческом смысле, «Шесть романсов для баса» – диадема бриллиантов, трагическое совершенство. Здесь мелькают интонации его театральной и киномузыки, Седьмой и Восьмой симфоний, предвестия более позднего плачущего и погребального Второго фортепьянного трио, а также написанных много позже, уже в 1960-е годы, поэмы «Казнь Степана Разина» и Тринадцатой симфонии.
Как драматический речитатив, как театральный монолог, звучит первый романс – «Сыну »: «Помолимся с тобой об избежании участи быть повешенным...». Стук судьбы, молитва – эти шесть басовых ударов «ля» – «помолимся» – и возглас: «ля-фа-диез» – участия, участи висельника. Потом этот интонационный комплекс «помолимся» часто присутствует у композитора: в Двенадцатой симфонии, в «Казни Степана Разина», вплоть до его истаивающей версии в последней, Пятнадцатой симфонии. Посвящая романс «об избежании участи» крохе-сыну , он благословлял и наставлял на самое главное: спасение, выживание, жизнь.
Как свободное любовное признание, широкая кантилена, звучит второй романс – «В полях под снегом и дождем», посвященный жене Нине Васильевне : широкий распев «тебя укрыл бы я плащом»; «готов я скорбь твою до дна делить с тобой»; «и если б дали мне в удел весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной».
«Макферсон перед смертью» – шедевр бесстрашия и черного юмора, когда весело, отчаянно идут к виселице, потому что за смертью одной – свобода . Освобождают юмор и смерть: «Привет вам, тюрьмы короля, где жизнь влачат рабы». Музыка подтанцовывает, корчит рожи – так идут на смерть шуты королей, этот образ шутовской свободы и бесстрашия будет присутствовать во многих сочинениях композитора: в виолончельном концерте, в Тринадцатой симфонии, в музыке к фильму «Гамлет». Выбор для пятого романса – сонета LXVI Шекспира и посвящение Ивану Ивановичу Соллер-тинскому разрывает все иносказания. Самый мрачный и самый исповедальный из шекспировских сонетов:
Измучась всем, я умереть хочу!(…).
И вспоминать, что мысли заткнут рот.
И разум сносит глупости хулу.
И прямодушье простотой слывет.
И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня!
Да другу будет трудно без меня…
Ритм мрачной Сарабанды. Медленный, взвешенный монолог. И вдруг входит напряженный возглас в слишком высокой для баса тесситуре. «И вспоминать, что мысли заткнут рот». Опять эти стучащие удары судьбы. И опущенные руки: «И разум сносит глупости хулу».
Последний, самый короткий романс – сумрачный прогноз: «По склону вверх повел король ряды своих полков, по склону вниз спустился он – но только без полков!» Перейдена граница юмора, шутки, детского стишка, но высказано темное, мрачное предчувствие. Конец. В присутствии смерти. Как потом – в финальной музыкальной сцене «Гамлета», как в Четырнадцатой симфонии. Из этого скромного сочинения, как с высокой вершины, видно далеко вперед. Из этих музыкальных образов родилось многое в будущем. Здесь он был исключительно откровенен, не боясь цензоров. Подумаешь, всего только: «По склону вверх повел король ряды своих полков. По склону вниз сошел король, но только без полков». 1942 год, Куйбышев.
В этом творческом контексте писалась опера «Игроки». Год создания – 1942-й. Шостакович приступил к написанию едва ли ни в день легендарной премьеры Седьмой симфонии. Идея оперы «Игроки» по Н.Гоголю пришла к автору, по свидетельству С.Хентовой, после Мюнхенского соглашения 1938 года. Именно тогда образы европейских политиков, пошло распродававших мир, совпали для Шостаковича с образами провинциальных шулеров. Написав в Куйбышеве 50 минут музыки, «обработав» 8 из 25 гоголевских явлений, Шостакович прекратил буквально на полуслове какую бы то ни было работу над оперой. Рукопись он подарил позже Галине Уствольской, что также многозначительно, как и посвящения «Шести романсов» ближайшим друзьям. Он дорожил оперой «Игроки», хотя считал ее сценическую судьбу безнадежной. Он ошибся.
Первым показал «Игроков» на сцене режиссер Юрий Александров, создавший спектакль об «Игроках» Шостаковича, о самом композиторе, о том, чем он живет в предчувствии Восьмой и Девятой симфоний, о его приговоре миру и о его уповании…». Под звуки «Песни о встречном», раздающейся из репродукторов, на сцену выходит одетая по моде 30-х годов разномастная публика. Оказывается, это – оркестр. За роялем – стеснительный брюнет в кепке и очках. Исполняя фортепианную партию, он время от времени вносит поправки в нотный текст. Это Шостакович. Его письма к И.Гликману из Куйбышева звучат «за кадром». Их читает режиссер, ничего не играя, – как «человеческий документ». Блистательная постановка «Игроков» режиссером Александровым – новое открытие этого гениального музыкально-сатирического памфлета. Добавим, что опера «Игроки» была впервые исполнена сразу после его смерти под управлением Г.Рождественского. Затем ученик Д.Шостако-вича, композитор и музыковед Кшиштоф Мейер завершил последние сцены, опираясь на материалы композитора. В этом виде клавир «Игроков» был издан и исполнен в 1983 году. Таким образом, Куйбышевский период, включающий все сочинения (симфонические, оперные, камерные) и письма композитора, позволяет увидеть по-новому образ времени, образ автора, а в ин- тересующем нас еще контексте дает основания для пространственно-временной диагностики и имиджевых стратегий города.
М.Арановский определяет так трагедию личности в тоталитарном обществе: «Трагедия личности заключалась в необходимости выбора между сохранением своего Я и переходом в не – Я, а точнее в Анти=Я. Переходом вынужденным, а иногда и добровольным… Переход на позиции Анти-Я объективно означал оправдание зла »12. Здесь не во всем можем согласиться с замечательным музыковедом и мудрым теоретиком. Гамлет не увиливает от участия, придумывая «мышеловку». Шостакович, согласившись на компромиссы и фразеологию, сохранил не только свои сочинения, но своих учеников и детей. Рассказывают, что он сердился, если коллега из-за этического максимализма отказывался формально выступить, «поступиться принципами». Будучи прагматичным, расчетливым шахматистом и бесконечно отзывчивым человеком, «композитором бытия» и переполненным страхами человеком, – он серьезно защитил советскую композиторскую шко-лу13. Его позиция напоминала принципы, о которых пишет К.Ясперс в книге «Духовная ситуация времени»: «Кто не участвует в том, что делают все, остается в одиночестве»14.
Изобретенная Шостаковичем культурная полифункциональность не была оправданием зла, не было даже и компромиссом. Это был порог между искусством и действительностью, о чем более подробно можно сегодня прочитать во многих изданиях. В том числе, в потрясающе проницательной статье о Д.Д.Шостаковиче Ч.Т.Айтматова: они были близки в последние годы жизни композитора. Позволим ссылку и на собственные опусы, прежде всего, потому, что в них собрана большая современная литература, а заголовки весьма программны: «Белые одежды» Шостаковича; «Пиар» или воодушевление; «Воображаемый музей Шостаковича»15. В Самаре – бывшей «запасной столице встреча прошлого и будущего отмечена, в том числе, и тем, что бункер Сталина находится на улице Шостаковича.
TO THE PROBLEM OF SPACE-TIME DIAGNOSTICS: «PR-PROJECT SHOSTAKOVICH» IN RESERVE CAPITAL AND GLOBAL TIME
Список литературы К проблеме пространственно-временной диагностики: «Пиар-проект Шостакович» в запасной столице и глобальном времени
- «Д.Д.Шостакович в меняющемся мире». Сб. ст. к 90-летию со дня рождения/Ред.сост. Л.Г.Ковнацкая. -СПб.: 1996;
- Д.Д.Шостакович. Письма И.И.Соллертинскому. -СПб.: 2006.
- Арановский М. Вызов времени и ответ художника//Музыкальная Академия. -1997. -№ 4. -С. 24;
- Арановский М. Музыкальные «антиутопии» Шостаковича//Русская музыка и ХХ век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры ХХ века. -М.: 1974;
- Робинсон Б. Музыка была не виновата. -Новосибирск: 2005. -С. 290; 296 -297;
- Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время/Пер. с польск. Е.Гуляевой. -М.: 2006. (ЖЗЛ: Сер. биогр.; Вып. 1014);
- Петров В. О. Творчество Шостаковича на фоне исторических реалий XX века. -Астрахань: 2007;
- Дворниченко О. Москва Кремль Шостаковичу. -М.: 2011.
- Бурлина Е. Между летописью и исповедью//В кн.: Бурлина Е.Я. Город-Страна-Планета. Модели гуманизма в художественной культуре. -Самара: 1995.
- Еремеев А.Ф. От «события» к «событию»//М.М.Бахтин. Эстетическое наследие и современность. МГУ им. Н.П.Огарева. -Саранск:1992. -С. 19.
- Библиография Самарской универсальной научной библиотеки «Д.Д.Шостакович в Куйбышеве/Самаре».
- «Самарское приношение. Д.Шостакович -100 лет». -Самара; Дюссельдорф: 2006. -С. 100.
- Эскина Н.А. Самарский этюд//Шостакович: Между мгновением и вечностью. Документы. Материалы. Статьи. -СПб.: 2000. -С. 418 -424.
- Сабинина М. Было ли два Шостаковича?//Музыкальная Академия. -1997. -№ 4;
- Дмитрий Шостакович: между мгновением и вечностью/Ред-сост. Л.Ковнацкая. -СПб.: 2000;
- Elisabeth Wilson. Schostakovitch. A Life Remembered. -Princetone N.J.: 1994.
- Гликман И. Письма к другу. Д.Шостакович -И.Гликману. -М.: 1993.
- Волков С. Шостакович и Сталин: Художник и царь. -М.: 2005.;
- Волков Соломон. История русской культуры ХХ века от Льва Толстого до Александра Солженицына. -М.: 2008.
- Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte//Ясперс К. Смысл и назначение истории. Глава «Границы порядка существования». -М.: 1991. -С. 328.
- Бурлина Е. «Белые одежды» Дмитрия Шостаковича;
- «Культурное событие»: пиар и воодушевление;
- Ч.Айтматов о Шостаковиче//Бурлина Е.Я. Межкультурная коммуникация. Толерантность: Избранные статьи, исследования, проекты. 1997 -2007. -Самара: 2007.