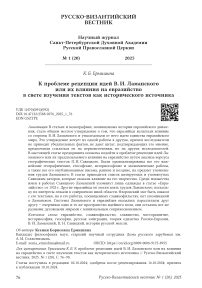К проблеме рецепции идей В. И. Ламанского или их влияния на евразийство в свете изучения текстов как исторического источника
Автор: Ермишина К.Б.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статьях и монографиях, посвященных истории евразийского движения, стало общим местом утверждение о том, что евразийцы испытали влияние со стороны В. И. Ламанского и унаследовали от него идею единства евразийского мира. Это утверждение конуст из одной работы в другую, причем исследователи не приводят убедительных фактов, не дают цитат, подтверждающих это мнение, предпочитая ссылаться не на первоисточники, но на других исследователей. В настоящей статье предпринята попытка подойти к проблеме рецепции идей Ламанского или их предполагаемого влияния на евразийство путем анализа корпуса географических текстов П. Н. Савицкого. Были проанализированы все его важнейшие географические, геософские, историкофские и экономические работы, а также все его опубликованные письма, ранние и поздние, на предмет упоминания трудов Ламанского. В статье приводится список цитируемых и упомянутых Савицким авторов, которые оказали влияние на его творчество. Среди множества имен в работах Савицкого Ламанский упомянут лишь однажды в статье «Евразийство» от 1925 г. Другие евразийцы не могли знать трудов Ламанского, поскольку их интересы лежали в совершенно иной области. Флоровский мог быть знаком с его текстами, но в его работах, посвященных славянофильству, нет упоминаний о Ламанском. Системы Ламанского и евразийцев оказались параллельны друг другу - очерчивая одно и то же пространство идейного поля, они остались все же разными духовными мирами с минимальным соприкосновением.
Евразийство, славянофильство, славянство, месторазвитие, историософия, геософия, русская эмиграция, теория единства россии-евразии, в. и. ламанский, п. н. савицкий, история русской мысли
Короткий адрес: https://sciup.org/140309241
IDR: 140309241 | УДК: 1(470)(091)(092) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_76
Текст научной статьи К проблеме рецепции идей В. И. Ламанского или их влияния на евразийство в свете изучения текстов как исторического источника
E-mail: ORCID:
Candidate of Philosophical Sciences, Main Research Fellow, Aleksandr Solzhenitsyn House of Russian Expatriates.
E-mail: ORCID:
В статьях, посвященных исследованию евразийства, стало общим местом утверждение о том, что одним из источников идей движения была концепция В. И. Ламан-ского. «Выделение России и сопредельных территорий в особый „мир“, отличный как от Европы, так и от Азии, привлекающий к евразийству особое внимание, не является, однако, изобретением представителей этой школы. <…> Для того чтобы прояснить генезис этой собственно евразийской идеи, впервые изложенной в статье

Портрет В. И. Ламанского на обложке журнала «Искры» (№ 28 от 21 июля 1913 г.)
для П. Н. Савицкого, а именно: значение
П. Н. Савицкого „Европа и Евразия“, мы обратимся к трудам русского слависта XIX в. В. И. Ламанского, придерживающегося славянофильских взглядов и критиковавшего, в связи с этим, традиционное деление на части света»1. «В настоящей статье мы обратимся к геосоциологиче-ским взглядам других носителей прото-евразийских идей — отечественных мыслителей В. И. Ламанского, А. П. Щапова, Д. И. Менделеева. Воззрения этих выдающихся ученых повлияли на формирование евразийской геополитической, геософской, геоантропологической, геоэт-нографической <…> единой исторической картины России-Евразии»2. Примерно так начинаются статьи, посвященные предполагаемым взаимоотношениям евразийцев с Ламанским. Казалось бы, здесь нет никакой ловушки для исследователя, слишком многое говорит в пользу того, что влияние Ламанского на евразийцев имело место, более того, Ламанского называют протоевразийцем, предшественником этого направления русской мысли.
Исследователи обращают внимание на то, что Ламанский озвучил, едва ли не одним из первых, идеи, которые стали ведущими для евразийства и в частности русского языка для всемирно-исторического культурного процесса и в качестве краеугольного камня славянства и, во-вторых, евразийское географическое положение России, которая является срединным миром, не Европой и не Азией. Важной идеей Ламанского, которая вполне коррелирует с ранней историософской концепцией евразийцев (до 1925 г.) было также разделение «<…> христианско-арийского человечества на сложившиеся исторически восточную и западную половины: мир романо-германский, латино-немецкий, католический и мир греко-славянский, восточнохристианский, своеобразие которых определяется совокупностью факторов (географических, этнографических, религиозных, общественных, культурных и др.). Это словно два океана, две стихии, неизбежное столкновение которых имеет всемирно-историческое значение»3. Эти философемы были центральными (наряду с некоторыми другими) для мировоззрения П. Н. Савицкого, который привнес их в общую копилку евразийских идей4.
Насколько правомерно мнение о влиянии Ламанского на евразийство, как можно проследить это влияние, какие конкретные факты на него указывают? Эти вопросы мы ставим в настоящей статье как центральные. В качестве исследовательского метода мы берем изучение евразийских текстов как исторического источника, то есть как основное фактическое свидетельство, опираясь на которое можно сделать те или иные выводы. Этот подход поможет избежать поспешных выводов и легковесных утверждений (которые часто оборачиваются публицистикой, фигурой речи, не подтвержденной фактами).
В. И. Ламанский (1833–1914) был ординарным профессором кафедры славянской филологии Петербургского университета, П. Н. Савицкий (1895–1963) учился на экономическом отделении Санкт-Петербургского политехнического института им. Петра Великого в 1913–1917 гг. (в настоящее время — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Когда Ламанский скончался, Савицкий был студентом второго курса. Ламанский родился в разгар Русско-турецких войн, вызвавших всплеск патриотизма и ставших истоком русского духовного возрождения и национального подъема. Одновременно это была эпоха крепостного права, знать по старинке все еще носила напудренные парики, а декабристы, выступившие против режима Николая I, уже получили наказание — пятерых четвертовали, 31 бунтовщику отсекли голову, 16 были отправлены на каторжные работы… На эту эпоху приходится расцвет творчества А. С. Пушкина, в 1833 г. впервые исполнили торжественное произведение, ставшее официально имперским гимном, — «Боже, Царя храни».
Савицкий родился в год, когда А. С. Попов демонстрировал изобретенное им радио, В. К. Рентгеном были открыты рентгеновские лучи, произошла первая высадка человека в Антарктиде. Началась борьба империи с революционерами: в этот год В. И. Ленин организовал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (кстати, в эпоху Николая I Ленина могли и четвертовать, а вот в эпоху Николая II этот революционер выписывал в ссылку ружье для охоты и возмущался тем, что власти отказались прислать охотничью собаку). 1895 г. — время рождения кинематографа: 28 декабря 1895 г. братья Люмьер в Париже продемонстрировали первый платный показ «Синематографа»… Никогда в истории человечества не происходило еще столь быстрых и радикальных изменений в течение всего лишь полувека — от царствования Николая I до правления Николая II. Формальное пересечение Савицкого и Ламанского — город Санкт-Петербург, академическая среда, но «эпохи» и поколения — совершенно разные. Скорее всего, их личная встреча не состоялась, но известия о значительном славянофиле и географе, преподавателе Петербургского университета, могли бы дойти до Савицкого, живого, открытого к общению человека.
Могли ли другие основоположники евразийского движения стать проводниками идей Ламанского? Г. В. Флоровский с симпатией относился к славянофильству, хотя подчеркивал ограниченность этого направления, обвиняя славянофилов в узком национализме. Флоровский, несомненно знал и читал основных славянофилов — от ранних до Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. У Флоровского были две статьи, посвященные славянофильству, — «Вечное и преходящее в учении русских славянофилов» (1921) и «Вселенское предание и славянская идея» (1925). Среди упомянутых в этих статьях авторов мы видим имена Н. В. Гоголя, Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, Ивана Аксакова и его брата Константина Аксакова, А. С. Хомякова, братьев И. В. Киреевского и П. В. Киреевского, Н. Я. Данилевского («Его известную книгу согласно признали за славянофильский катехизис»5), К. Н. Леонтьева, ген. А. А. Киреева, К. Н. Бестужева-Рюмина, Н. Н. Страхова, Аполлона Григорьева, Ф. М. Достоевского, А. И. Герцена, П. Я. Чаадаева (хотя он принадлежал к кругу западников, но Флоровский иллюстрировал его идеями свои построения), В. Ф. Одоевского, Ф. И. Тютчева, раннего Вл. Соловьева. В этом списке нет Ламанского. Он оставался как бы невидимым для поколения, пришедшего на смену славянофилам и западникам, был забыт почти на век. Имя Ла-манского стало привлекать внимание историков философии, как ни странно, именно в связи с евразийцами, иногда — в связи с Н. Я. Данилевским. Именно они способствовали его воскрешению из забвения, когда исследователи искали идейных предшественников движения или говорили о соратниках и единомышленниках.
Флоровский внес в евразийство определенный вклад — не географические или экономические, но культурологические и религиозно-философские идеи, считался своеобразным официальным «философским лицом» движения. Славянофильские и прославянские идеи высказывались Ламанским в целом ряде журнальных статей, многие из которых были малоизвестны: «Многие работы В. И. Ламанского опубликованы в малочитаемых периодических изданиях и разбросаны по различным дореволюционным журналам и газетам»6 1850–1890-х гг., они затерялись в частных библиотеках, являлись малодоступными для читателя начала XX в. Славянофильские идеи Ламанского не могли произвести на тонкого интеллектуала с глубокими философскими запросами, каким был Флоровский, большое впечатление. Для амбициозного молодого интеллектуала они были слишком лапидарны, не отвечали реалиям пореволюционного времени.
Н. С. Трубецкой, имевший филологическое образование и занимавшийся лингвистикой, не интересовался ни географией, ни философией. Более того, Трубецкой выступал последовательным критиком и даже противником идей славянства и славянофильской доктрины вообще. В письме к П. П. Сувчинскому от 15 января 1925 г. он пишет: «В статье К<изеветтера>7, по-моему, есть одно хорошее место, это — о призрачности связи евразийства со славянофильством. Это, собственно, вполне правильно, и, сам того не подозревая, К<изеветтер> тут говорит именно то, что рано или поздно скажем и мы. В будущей статье о славянофилах, которую напишет кто-нибудь из нас, надо будет прямо, ради издевательства, сослаться на это место в статье К<изеветтера>»8. Н. С. Трубецкой неоднократно критиковал славянофильские идеи, вероятно, усвоив от своего отца, философа кн. С. Н. Трубецкого, отрицательное отношение к этому течению русской мысли9.
Трубецкой отстаивал идею культурного релятивизма, полагая, что любое явление из мира традиции или цивилизационных достижений равновелико и равнозначно: «Нет высших и низших. Есть похожие и непохожие»10. Против релятивизма Трубецкого выступил Савицкий, который был поборником идеи иерархизма. В статье-рецензии на работу Трубецкого «Европа и человечество» Савицкий отметил слабое место в построениях Трубецкого, которое заключалось в том, что тот уравнивает культуру западноевропейскую и любую туземную, принадлежащую народам доци-вилизационного уровня: «Вполне понятно стремление каждого народа обрести свое собственное идеологическое лицо и не быть, в отношении идеологии, на поводу у других наций. Но в каком положении очутился бы тот народ, который, внимая проповедям об „относительности благ европейской цивилизации“, захотел бы сменить винтовку на бумеранг и современную химию и физику <…> на физические и химические знания дикаря?»11
Развивая мысль Савицкого, можно отметить, что было бы ошибкой поставить на одну доску, к примеру, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 П. И. Чайковского и, допустим, воинственную песню маори на призывание дождя. Формально и то, и другое — музыкальное произведение, но для того, чтобы воспроизвести концерт Чайковского, потребуются десятилетия обучения музыкантов игре на различных инструментах, многочасовые репетиции, не говоря уже о том, что для появления нотной системы записи музыкального материала нужны были целые столетия. В центре сложнейшего культурного процесса стоит фигура Чайковского, гения, для появления которого потребовались также века русской истории, религиознокультурной работы поколений.
Савицкий справедливо восстает против релятивизма Трубецкого, противопоставляя ему иерархический подход в сочетании с идеей превознесения русской культуры. Объективное мерило, приложимое к культурам и цивилизациям, существует, и оно опирается на вполне эмпирические факты и наблюдения: «<…> невозможно не признать существование некоторого общеобязательного, в принципе, мерила для оценки относительного совершенства тех или иных технических или научно-эмпирических достижений, для констатирования их неравноценности и в то же время качественной несоизмеримости»12.
Для пламенного патриота Савицкого, буквально влюбленного в русскую культуру, идеи Трубецкого о том, что русификация окраин Российской империи в XIX в. стала мостом для европеизации, были сомнительны. Для Савицкого русификация была равна просвещению. Он несколько иначе видел и историю России, иначе понимал роль русской культуры и русского языка. Савицкий мог бы вместе с Ламанским сказать, не сомневаясь ни в одном слове: «Среди этого множества разных литературных и нелитературных, славянских и инородческих наречий выступает в мире греко-славянском могущественный и богатый язык русский, господствующий, государственный язык мировой державы, прямой и единственный законный наследник древнеславянского письменного языка. В нашем мире ни один из современных языков, кроме русского, не может иметь притязания на значение всемирно-историческое, на сколько-нибудь большое распространение вне пределов своих тесных родин. Для всех этих славянских народностей и многочисленных инородцев орудием обоюдного понимания и взаимной связи, общим дипломатическим органом и даже языком высшей образованности может быть только язык русский»13. «Вот лозунг, выдвинутый мною, к преподаванию русского языка за границей: „Всей, всей Земле пора познать язык космической эпохи!“»14 — вторит этому Савицкий. Между Савицким и Ламанским в этом вопросе не могло быть никакого противоречия, в то время как Трубецкой, который был противником славянофилов, едва ли стал бы солидаризоваться с ним.
П. П. Сувчинский, интересы которого лежали в области литературы и музыки, вряд ли читал Ламанского, более того, вряд ли он вообще знал это имя.
Таким образом, источником влияния Ламанского на евразийство мог быть только Савицкий, столь близкий ему во всех главных идеях. Присмотримся к работам Савицкого на предмет цитации или хотя бы знакомства с произведениями Ламанского.
Среди геософских и географических работ Савицкого наиболее известны его монография «Географические особенности России» (Прага, 1927), сборник статей «Россия — особый географический мир» (Прага, 1927) и довольно важная для него статья «За творческое понимание природы русского мира» (Прага, 1939). В этих работах Савицкий формулирует и доказывает на богатом фактическом материале свои основные геософские тезисы, вводит центральное понятие «месторазвитие», отказывается от деления Росси на европейскую и азиатскую части, вводит также понятия «доуральская» и «зауральская» Россия и т. д. Для подтверждения своих тезисов он обращается к трудам огромного количества отечественных (по преимуществу) и зарубежных географов, климатологов, картографов, мыслителей.
Проанализировав все упомянутые в указанных работах имена, мы получаем следующий список: А. Д. Архангельский, В. В. Алехин , Р. И. Аболин, Л. В. Абуть-ков, Я. Н. Афанасьев, В. В. Бартольд , А. И. Бессонов, М. И. Балкашин, Н. А. Буш, П. И. Броунов, Богданов, Г. И. Боровка, В. П. Бушинский, Л. С. Берг , Б. Л. Брук, Е. Вар-минг, В. И. Вернадский , В. В. Винер, Ф. А. Виноградов, А. И. Воейков, Д. Г. Виленский, В. Г. Вильямс, Я. Я. Витынь, Г. Н. Высоцкий, Н. Гаврилов, Г. Гаак, А. И. Герцен , К. Д. Глинка, Б. Н. Городков, А. фон Гумбольдт , Б. Б. Гриневецкий, А. Я. Гордягин, Геродот, К. П. Горшенин, К. К. Гедройц, Н. Я. Данилевский , А. Г. Дояренко, В. В. Докучаев , Н. А. Димо, В. А. Дубянский, Г. И. Доленко, Д. А. Драницын, Оскар Друде, Н. Д. Емельянов, Жиллеров, А. А. Жилинский, Е. И. Жуковский, К. Заппер, С. А. Захаров, И. А. Зворыкин, В. С. Ильин, А. А. Каминский, В. Г. Каратыгин, А. Н. Карамзин, А. Н. Краснов, В. Л. Комаров, Б. Н. Книпович, С. Краснопольский, А. А. Крубер, С. И. Коржинский, А. А. Красюк, В. Л. Комаров, П. Н. Крылов, Б. Н. Книпович, Г. А. Клюге, К. Кейльгак, Б. А. Келер, Ю. Клеопов, Н. Н. Кузнецв-Угамский, П. Коровин, Е. Е. Лавенко, К. Н. Леонтьев, А. И. Набоких, Н. Я Марр, Монтескье , Д. Менделеев, Г. Ф. Морозов, Е. де Мартонэ, Г. Мес, Мушкетов, В. Е. Мотылев, Г. Ф. Нефедов, И. В. Новопокровский, С. С. Неуструев, К. К. Никифоров, П. В. Отоцкий, И. К. Пачоский, А. М. Панков, П. Е. Пегеев, С. Н. Прокопович, Л. И. Прасолов, Н. И. Прохоров, Л. Г. Раменский, Н. И. Рожанцев, М. И. Рожанец, Р. В. Ризположенский, А. Н. Стасюлевич, В. П. Семенов, В. П. Семенов-Тянь-Шаньский, Н. М. Сибирцев, А. Н. Седельников, Б. А. Скалов, Н. М. Сибирцев, А. Н. Соколовский, В. Н. Сукачев, Н. А. Северцов, Н. Н. Страхов, П. П. Семенов, Г. И. Танфильев, А. П. Тольский, А. Тюрин, Г. М. Тумин, Жозеф де Турнефор, Н. С. Трубецкой , С. А. Те-плоухов, Н. Н. Уралов, Л. Фельде, И. В. Фигуровский, А. Н. Челинцев, С. П. Шевырев, З. Ю. Шокальский, И. А. Шульга, М. Энгельгардт-Классовский, М. В. Яхонтов, А. Яната, С. А. Яковлев, E. H. Minns, C. F. Marbutt, Raukiaer, H. L. Schantz, R. Zon.
В списке выделены жирным шрифтом имена некоторых философов и мыслителей, которые не были географами в строгом смысле этого слова, но оказали идейное влияние на становление геософской концепции Савицкого. Как мы видим, это историк и востоковед В. В. Бартольд; автор альтернативной Дарвину концепции происхождения жизни на земле Л. С. Берг; многогранный ученый, автор концепции ноосферы В. И. Вернадский; географ, естествоиспытатель А. фон Гумбольдт; славянофилы Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев; русский мыслитель и публицист, отвергнувший в конце жизни западничество, А. И. Герцен; филолог Н. Я. Марр; химик Д. И. Менделеев, на историософскую работу которого «К познанию России» Савицкий ссылается несколько раз; и основоположник евразийства Н. С. Трубецкой. Именно эти мыслители могли оказать влияние на становление взглядов и мировоззрения Савицкого в наибольшей степени.
Насколько доступна была книга Ламанского «Три мира Азийско-Европейского материка»? В 1892 г. вышло первое издание, в 1916 г. — второе, дальнейшие переиздания были осуществлены уже в постсоветскую эпоху. Даже по этим скудным переизданиям видно, что особого запроса на книгу Ламанского не было. К примеру, в 1912 г., уже через шесть лет после первого издания в 1906 г., вышло седьмое переиздание книги Д. И. Менделеева (1834–1907) «К познанию России», на которую не раз ссылается Савицкий в своих работах. То есть книгу Менделеева в России переиздавали ежегодно.
В 1924 г. было осуществлено ее переиздание в Мюнхене. Эту книгу переиздавали также в 1934 г. в Париже, в 1952 г. — в Буэнос-Айресе. Для сравнения, до революции книга Ламанского выходила только дважды, в эмиграции — ни разу. Ее переиздание в 1916 г. было осуществлено учениками Ламанско-го, вышло с предисловием Г. М. Князева в Санкт-Петербурге.
В 1916 г. Савицкий был учеником П. Б. Струве, был на взлете своей научной и дипломатической карьеры, внимательно следил за литературой, и, насколько можно судить по его статьям 1914–1916 гг., его занимала экономическая и политическая сторона жизни России. Центральной темой Савицкого была империя, законы ее существования, типы и виды империй, вопрос столкновения империй Российской и западноевропейского типа, колониальные империи и русский тип империй, интегральный. На эту тему он читал богатую литературу, большей частью на иностранных языках, ве-
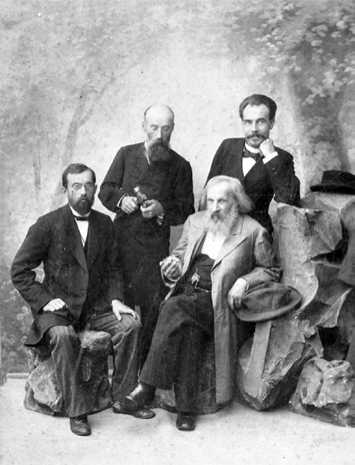
Д. И. Менделеев с учениками, 1910 г.
роятно, по совету своего научного руководителя П. Б. Струве.
Д. И. Менделеев был современником Ламанского, но волновавшие его историософские и социально-политические темы были более созвучны той эпохе — вопросы промышленности и промышленной географии, экономическое районирование, оценка природных ископаемых и залежей, освоение Арктики, анализ демографии. Вопросы
славянства к началу XX в. рассматривали уже как если не курьезные, то, во всяком случае, принадлежащие истории, прошлому, примерно как концепция старца Филофея «Москва — Третий Рим». Заметим, кстати, что это не значит, что концепции Филофея или Ламанского уже списаны в архив, — напротив, в настоящее время происходит взлет интереса к этой области русской мысли. Но это тема отдельной статьи.
В списке имен, важных для становления мировоззрения Савицкого, подчеркнуты имена ученых, географов, почвоведов, климатологов, которые были для него особенно важны: В. В. Алехин, К. Д. Глинка, Г. И. Танфильев, В. В. Докучаев. Это самые цитируемые Савицким в указанной геополитической и географической области авторы.
Имя Ламанского Савицкий не упоминает и в других своих географических и историософских работах, таких как «„Житие“ протопопа Аввакума как географический первоисточник» (1929), «Научные задачи евразийства» (1931), «Периодизация истории русских открытий» (1931), «„Подъем“ и „депрессия“ в древнерусской истории» (1935). Он также не упоминает Ламанского ни в ранней переписке с П. П. Сувчинским15, ни в поздних письмах к Н. Н. Алексееву16, А. Н. Зелинскому17
и Л. Н. Гумилеву18. Стоит отметить, что в своих письмах Савицкий называет огромное количество имен, говорит об интересующей его литературе, о своих работах и работах коллег. Савицкий знакомился с самой разнообразной литературой, будучи вундеркиндом, читал серьезные книги с семи лет (в восемь лет он, к примеру, читал работы знаменитого буддолога и востоковеда Ф. И. Щербатского), хорошо знал историю искусства, географию, историю и литературу как таковую.
Имя Ламанского и указание на первое издание его книги 1892 г. встречается у Савицкого только в работе «Евразийство», опубликованной в «Евразийском временнике» (кн. 4.). Это, кажется, единственное упоминание Ламанского у Савицкого: «Необходимо различать в основном массиве земель старого света не два, как это делалось доселе, но три материка — не есть какое-либо „открытие“ евразийцев; оно вытекает из взглядов, ранее высказывавшихся географами, в особенности русскими (напр., проф. В. И. Ламанским в работе 1892 г.). Евразийцы обострили формулировку; и вновь „увиденному“ материку нарекли имя, ранее прилагавшееся иногда ко всему основному массиву земель старого света, к старым „Европе“ и „Азии“, в их совокупности»19.
О чем говорит Савицкий? Он не упоминает Ламанского как некий эксклюзивный источник, но указывает, что он принадлежит традиции, длинному списку имен отечественных и зарубежных мыслителей, хотя их формулировка оказалась недостаточной . Евразийцы «обострили» эту формулировку, придали ей надлежащий вид, наполнили неким новым содержанием. Ламанский в этом отрывке назван не предшественником, но принадлежащим к ряду тех, кто высказал первое недостаточное суждение о новом географическом определении места России в мировой историкокультурной и цивилизационной системе.
Этот парадоксальный вывод кажется обескураживающим. На сходстве идей евразийцев и Ламанского основаны историко-исследовательские концепции, такие, к примеру, как изложенная в интересной и очень значимой для евразийствоведе-ния книге — монографии Р. Р. Вахитова «Евразийство. Логос. Эйдос. Символ. Миф». Автор этой книги утверждает, что от Ламанского Савицкий унаследовал много идей, в частности: «В. И. Ламанский — сторонник концепции Н. Я. Данилевского, отрицавшего существование единого человечества и разделявшего его на различные культурно-исторические типы. Полагаем, это впоследствии облегчило восприятие Савицким антиуниверсалисистской культурологии Трубецкого. Исследователь творчества Ламанского Б. А. Прокудин отмечает, что Россию Ламанский мыслил как центр греко-славянского мира и критерием вхождения народов в этот мир считал историкокультурную общность. Это положение (об общности исторических судеб как критерии объединения народов в цивилизацию) также потом перешло в евразийство. <…> Специалист по творчеству Савицкого Матвеева отмечала, что идеи Ламанского оказали влияние на его дореволюционные работы и, прежде всего, — на работы по экономической географии (такие как, например, „К вопросу о развитии производительных сил“, опубликованная в „Русской мысли“)»20.
Посмотрим указанную Матвеевой статью Савицкого от 1916 г. «К вопросу о развитии производительных сил», опубликованную в «Русской мысли». Есть ли в ней следы влияния Ламанского, упоминание его имени или его идей? Ответ прост: нет. В статье обсуждается экономическая концепция М. И. Туган-Барановского «Развитие производительных сил». В своей статье Савицкий оппонирует работе Туган-Барановского. Он не согласен с его мнением о том, что главным истоком промышленного развития России должно оставаться сельское хозяйство. Савицкий считает эту концепцию вредной и настаивает на необходимости индустриализации России. Более того, в этой статье Савицкий использует терминологию «Азиатская» и «Европейская» Россия: «Для нас развитие Азиатской России есть нечто, лежащее существенным образом вне нас»21, «Развитие „русских производительных сил“, несомненно, охватывает не только Европейскую Россию, но всю Российскую империю»22. То есть в этой статье мы видим нечто противоположное концепции Ламанского, да и будущей евразийской концепции самого Савицкого о единстве «доуральской» и «зауральской» России!
Савицкий в этой статье предстает как принадлежащий всецело экономической и политической школе своего учителя П. Б. Струве, он делает первые робкие шаги по выходу из этой парадигмы, его явно по ряду критериев не удовлетворяющей. Он высказывает мысль о том, что Российская империя по типу организации и управления не равна колониальной империи Англии, и на этом строит свою политическую и экономическую теорию.
Таким образом, указанная Матвеевой статья является ярким свидетельством того, что Савицкий до революции, во всяком случае до 1916 г., не был знаком с идеями Ла-манского или, если и был с ними знаком, то их не принял. Исследователь А. М. Матвеева, которая в своей монографии утверждает, что ранние работы Савицкого сформировались под влиянием Ламанского, должна была привести веские доказательства, поскольку ее концепция об эволюции взглядов Савицкого основана на подобных предположениях.
Матвеева пишет о том, что экономическая концепция Савицкого утверждает территориальное и климатическое единство России, в связи с чем «по естественным условиям промышленность должна быть как бы рассеянная по всему лицу империи»23. Указав на этот момент, автор делает вывод: «Здесь прослеживается влияние концепции знаменитого историка-слависта В. И. Ламанского, которого позже евразийцы провозгласят одним из своих идейных предтеч. В его работах славянофильской направленности „Об историческом изучении Греко-славянского мира в Европе“ (1871) и „Три мира Азийско-Европейского материка“ (1892) утверждалась идея физико-географического единства русской империи, обусловленного „совершенным почти отсутствием в ней крупных внутренних расчленений“»24. Отметим, что данная цитата Савицкого, который оппонирует Туган-Барановскому, свидетельствует совсем о другом. Савицкий говорит не о единстве России-Евразии, о котором он будет писать позже, уже в евразийский период своего творчества. В своей статье 1916 г. он утверждает, что индустриализацию следует проводить по всей империи, не сосредотачивая ее в определенных местах, например, в Донецком угольном бассейне, — поскольку в последнем случае она будет крайне зависимой и уязвимой, то есть (цитируем еще раз, читая эти слова в правильном контексте): «по естественным условиям промышленность должна быть как бы рассеянная о всему лицу империи»25. Туган-Барановский полагал, что Россия должна быть разделена на сельскохозяйственные и промышленные области, Савицкий утверждает, что должен быть осуществлен смешанный тип хозяйства, который позволит развивать пути сообщения и инфраструктуру.
Как видим, Матвеева говорит не просто о влиянии Ламанского, но делает даже еще более сильный вывод, утверждая, что евразийцы якобы провозгласили Ла-манского «одним из своих идейных предтеч». Ни одной цитаты, ни одного факта в подтверждение этого мнения она не приводит, и немудрено: в статьях Савицкого, тем более ранних, их просто нет. Но это мнение, выраженное, кстати, всегда самыми неясными словосочетаниями («здесь прослеживается влияние», «тут мы сталкиваемся с ситуацией» и под.), кочует из одной статьи в другую, из одной книги в другую, подобно вирусу, циркулируя в исследовательских кругах. Все это становится возможным потому, что творчество Савицкого исследовано недостаточно, эволюция его идей
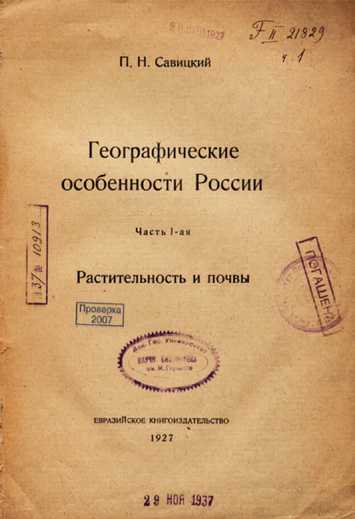
«Географические особенности России. Часть 1-ая» П. Н. Савицкого (1927)
от струвизма к евразийству до сих пор ясно не очерчена и не осмыслена.
Итак, мы видим, что вокруг идеи о влиянии Ламанского на евразийство созданы в наше время прочно утвердившиеся мифы, вызванные, вероятно, поразительным сходством его отдельных идей и евразийских философем. Это ставит перед нами серьезную проблему качества гуманитарных исследований. Этот род исследовательской деятельности не должен превращаться в фантазию и поиск ассоциаций, иначе на выходе мы будем получать не исследования, а авторское художественное творчество. Последнее также имеет право на существование и даже полезно на своем месте, пользуясь заслуженным вниманием ценителей жанра. Но это не нужно смешивать с исследовательской работой, иначе перед нами предстанет искаженная история русской философии и русской мысли.
Анализ евразийских текстов непреложно свидетельствует о том, что евразийцы не только не провозглашали Ламанского своим предшественником (на самом деле они считали свою мысль совершенно новаторской и старались, особенно в первые годы, не указывать ни на никакие преемства), они вообще, кроме, вероятно, Савицкого, не были знакомы с его работами, а может быть, даже никогда и не слышали его имени. Как уже было указано, Савицкий внимательно изучал труды других, весьма многочисленных, авторов и пришел к пониманию единства России-Евразии иным путем.
Что касается историософской теории Менделеева, близкой Савицкому по ряду внешних факторов, а главное — идеей о промышленном будущем России и путях дальнейшего цивилизационного развития, то и Менделеев использует устоявшуюся терминологию «европейская» и «азиатская» части России, против которой выступал позже Савицкий. У Менделеева Савицкий мог заимствовать другие идеи: данные статистики, наблюдения над экономикой Российской империи, рассуждения о судьбах России в привязке к мировой хозяйственной системе. Все вышеперечисленное было очень важно для Савицкого, который работал над курсом «Мировое хозяйство в новейшем освещении»26, продолжая свои занятия, начатые в России в 1913 г., но к 1925 г. экономическая подоплека этих занятий сменилась географическими интересами.
Около 1925 г. Савицкий начал работать над монографией «Географические особенности России», которую выпустил в 1927 г. Возможно, переключение с тем экономики, литературоведения, государствоведения и статистики на темы историософии, географии и поиск целостного мировоззрения было продиктовано двумя важнейшими обстоятельствами.
Первое: неудача в построении русской экономической философии. Можно предположить, что Савицкий хотел создать нечто подобное книге «Философия хозяйства» С. Н. Булгакова. Тем не менее, приступая к указанной теме, он всякий раз терпел неудачу. Его итоговая философско-экономическая статья 1925 г. «Хозяин и хозяйство», которую Трубецкой назвал самой неудачной («он сам признает, что та единственная статья, которую он написал в этот период своей жизни („Хозяин и хозяйство“), самая неудачная из всех его статей»27), стала для него знаковой, — он понял, что занимается не вполне своей темой, поскольку его истинные интересы лежали в другой области. Статья «Хозяин и хозяйство»28 стала последним следом струвизма в творчестве Савицкого, если не считать работу «Метафизика хозяйства» (1925), опубликованную не в евразийском издании, но в «Сборнике статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню 35-летия его научно-публицистической деятельности» (Прага, 1925). Отдав этой статьей дань своему первому учителю, с которым разошелся еще в 1921– 22 гг., Савицкий уже не обращался к философии или метафизике экономики. Только с приходом в евразийство Н. Н. Алексеева они вместе разработали экономическую евразийскую концепцию (сочетание частного и государственного начал, самодовлеющая экономика, евразийская, континентальная система производства и др.), уже не пытаясь построить философско-метафизическую систему, но занимаясь чисто прикладной, практической задачей создания евразийской экономической программы.
Второе обстоятельство: Савицкий за 1920–1925 гг. настолько проникся новыми для него евразийскими темами из области историософии, языковедения, философии культуры, эйдологии, сравнительного богословия, что в конце концов центр тяжести его собственных интересов сместился в область географии и истории. Он начинает работать над контурами системы, которую позже назвал «россиеведение»; выстраивает собственную историософскую систему, в которой главными факторами становятся ритмы и закономерности времени (за образец он взял теорию экономи- ческих волн Н. Д. Кондратьева и открытые в его время новые законы квантовой физики и теории вероятности), а также географический фактор — как определяющий судьбы народов.
Савицкий приходит к центральному для его системы термину «месторазвитие» после 1925 г., и именно на этом поворотном моменте он обращается к Ламанскому, но не для того, чтобы заимствовать у него идеи, а для понимания эволюции собственных взглядов, для подтверждения своих интуиций.
Издав книгу «Географические особенности России» (Ч. 1. Растительность и почвы. Прага: Евразийское книгоиздательство, 1927), которая была им окончена в ноябре 1926 г., он сделал анонс: «Подготовляется к печати: Часть II-я: Хозяйство»29, но вторая часть так и не вышла, хотя у Савицкого было много материала на эту тему. Все-таки после 1925 г. темы экономики не были столь интересны для Савицкого, он не смог уже издать готовую к печати вторую часть книги, чувствуя, что фактический материал никак не укладывается в новую евразийскую систему взглядов, тема экономики принадлежит прошлому, доевразийскому периоду. Он так
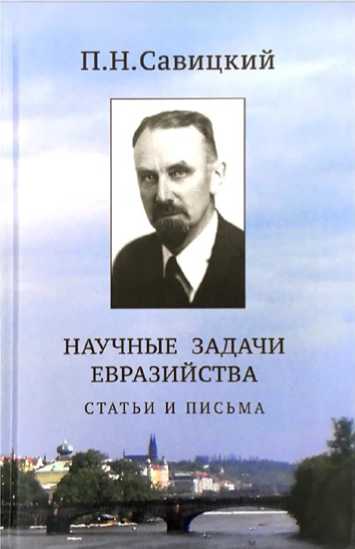
Сборник статей и писем П. Н. Савицкого, изданный в 2018 г.
и не смог непротиворечиво интегрировать свои доевразийские темы хозяйства, имперской экономики и мировой хозяйственной системы в евразийство, хотя и переопубли-ковал свою раннюю статью, которая относится скорее еще к доевразийскому периоду, «Континент-океан» (впервые опубликована в 1921 г., переопубликована в 1927 г. в книге: Россия — особый географический мир. Прага: Евразийское книгоиздательство, 1927).
Тот факт, что ссылки на книги географов, картографов, климатологов, которые мы находим в его произведениях «географического» периода после 1925 г., были изданы, по большей части, после 1920 г., подтверждает, что обращение Савицкого к географии и россиеведению относится к позднему периоду, главным образом после 1925 г. В списке литературы очень мало книг дореволюционного периода. Зрелая евразийская геософия, как она сложилась после 1925 г., слабо связана с теорией Ла-манского и имеет с ней скорее близкие аналогии, а не сходство. Книги, на которые ссылается Савицкий, в основном были изданы в Советской России; он тщательно «охотился» за этой литературой в эмиграции, продолжая это делать и в поздние 1950-е и 1960-е гг., полагая, что без знания советских авторов (большинство из которых, конечно, сформировались как ученые еще до революции) он будет просто не в курсе новейших течений в науке.
Это не должно нас разочаровывать, — скорее наоборот: единогласие Савицкого и Ламанского указывает на то, что идея единства России-Евразии — верная, она очень важна для понимания исторических судеб нашей страны, важна для построения работающей экономической теории, понимания русской религиознофилософской миссии — той идеи, которую, по мысли Вл. Соловьева, Бог «думает» о России «в вечности».
Итак, мы имеем дело не с влиянием и не с заимствованием, не с источником евразийских идей в наследии Ламанского, но с другим, довольно интересным феноменом: совпадением историко-философских концепций, которые разделяет ровно полстолетия. Идеи, высказанные в книге «Три мира Азийско-Европейского материка» в 1892 г., остались не востребованными и не привлекли большого влияния, не вышли за круг ближайших последователей и ценителей творчества Ламанского не потому, что эти идеи были плохи или бездоказательны, но потому, что для них не пришло время, не созрела историческая ситуация. В начале 1920-х гг., а именно в 1921–1927 гг., похожие идеи высказывал и концептуально обосновывал Савицкий, и к этому времени они нашли благодатный отклик, проросли и дали обильный плод.
Таким образом, основываясь на всем вышеизложенном, можно сделать следующий вывод: говорить о взаимосвязи или влиянии Ламанского на евразийство в строгом смысле слова некорректно, хотя его и можно назвать протоевразийцем. Из евразийцев только Савицкий мог читать его книгу «Три мира Азийско-Европейского материка» (точных данных на эту тему нет, но, предположительно, он был знаком с книгой30), однако указал в единственном абзаце, в котором упомянул Ламанского, на недостаточность идей последнего. Другие евразийцы не читали работ Ламанско-го и даже вряд ли знали это имя. Следовательно, можно говорить о сюжетной линии «Ламанский — Савицкий», и с осторожностью: «Ламанский — евразийцы».
Скорее всего, Ламанский высказав свои идеи раньше евразийцев, не произвел такого впечатления, как, допустим, Данилевский, на научное и философское сообщество именно потому, что время, исторические обстоятельства для распространения подобных идей еще не созрели. Не началась еще эпоха, которая могла способствовать расцвету евразийства: пореволюционная, пост-имперская, когда Россия раскололась на советскую и эмигрантскую, потеряла окраины (Финляндию, Польшу, прибалтийские лимитрофы), отвергла европеизацию как цивилизационный путь, предначертанный России.
Вряд ли Ламанский оказал действительно значительное влияние на Савицкого. Кроме того, евразийство Савицкого 1919–1923 гг. (ранний период) сформировалось в то время, когда он работал над темами литературы, архитектурных изысканий (он начал свою научную деятельность как историк архитектуры левобережной Украины), экономической и политической теории. Географией профессионально и углубленно он занялся несколько позже, в связи с необходимостью выпуска своей центральной академической работы «Географические особенности России». В статье «Евразийство» от 1925 г., упоминая Ламанского, Савицкий даже не указал название его книги — возможно, в эмиграции ее уже не было под руками и он не помнил ее точное название.
Во всяком случае, сюжетная линия «Ламанский — Савицкий» свидетельствует о наличии в русской философской мысли определенной традиции: рассматривать Россию как отдельную цивилизацию в единстве географического пространства. Впервые ярко и убедительно на Западе эту мысль выразил А. Тойнби. В самой России мысль о том, что наша страна есть не просто одна из многих на континенте, но особый историкокультурный тип, особый географический мир и особый вид цивилизации, постепенно зрела на протяжении XIX и XX вв., а Ламанский и евразийцы, и, в первую очередь, Савицкий, внесли в эту геософскую традицию существенный вклад.