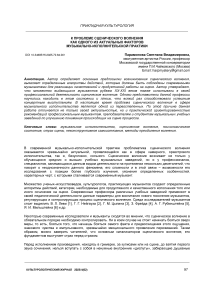К проблеме сценического волнения как одного из актуальных факторов музыкально-исполнительской практики
Автор: Парамонова С.В.
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Прикладная культурология
Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор определяет основные предпосылки возникновения сценического волнения, выявляет определенные алгоритмы действий, которые должны быть соблюдены современными музыкантами для реализации качественной и продуктивной работы на сцене. Автор утверждает, что множество выдающихся музыкантов рубежа XX-XXI веков также испытывали в своей профессиональной деятельности сценическое волнение. Однако представители данной профессии научились находить в этом состоянии и плюсы, что всякий раз способствовало успешным концертным выступлениям. В настоящее время проблема сценического волнения в сфере музыкального исполнительства является одной из первостепенных. По этой причине данная работа отличается не только своей актуальностью, но и практической ориентированностью рекомендаций профессиональным музыкантам, преподавателям и студентам музыкальных учебных заведений по улучшению понимания происходящих на сцене процессов.
Музыкальное исполнительство, сценическое волнение, психологическое состояние, страх сцены, неконструктивное самоистязание, методы преодоления волнения
Короткий адрес: https://sciup.org/170211162
IDR: 170211162 | DOI: 10.34685/HI.2025.72.84.001
Текст научной статьи К проблеме сценического волнения как одного из актуальных факторов музыкально-исполнительской практики
В современной музыкально-исполнительской практике проблематика сценического волнения оказывается чрезвычайно актуальной, проявляющейся как в сфере камерного, оркестрового исполнительства, так и, безусловно, сольного. Сценическое волнение возникает не только у обучающихся средних и высших учебных музыкальных заведений, но и у профессионалов, специалистов, занимающихся данным видом деятельности на протяжении нескольких десятилетий, что говорит о неоднозначности данного феномена, его сложности и в этой связи – возможности его исследования с позиции более глубокого изучения, уяснения определенных особенностей, характерных черт, с которыми сталкивается современный музыкант.
Множество ученых–искусствоведов, культурологов, практикующих музыкантов создают определенные алгоритмы действий, категории, необходимые для продуктивного и качественного исполнения того или иного сочинения на сцене. Современные профессора различных учебных заведений применяют в своей педагогической деятельности данные параметры для воспитания нового поколения музыкантов, регулирующих и контролирующих процесс сценического волнения. Среди исследователей-музыкантов стоит выделить В. Л. Леви [1], Г. Г. Нейгауза [2], Г. М. Цыпина [3], З. Фрейда [4], А. Г. Рубинштейна [5], Я. И. Мильштейна [6] и др.
Некоторые современные исследователи и музыканты сходятся во мнении, что сценическое волнение в обязательном порядке необходимо контролировать. Ни в коем случае не стоит начинать бояться сверх меры, то есть, бояться того, что начнешь бояться самого факта и предвосхищения этого ощущения, знакомого чувства и импульсивного, чрезвычайно эмоционального проявления переживаний. Таким образом, можно заверить читателей, что основным катализатором сценического волнения, его фундаментом выступает страх перед страхом.
Перед исполнением произведения, находясь в гримерке, за кулисами или на сцене, до взятия первого звука сочинения, нельзя вступать с собой в ненужные внутренние «диспуты», забирающие душевные силы, вызывающие духовное, моральное и художественное ни к чему хорошему не приводящее истощение. Данное противоречие практически невозможно одолеть, об этом необходимо постоянно помнить и не позволять этому чувству и ощущению реализоваться.
Современные исследователи утверждают, что нейтрализовать сценическое волнение можно благодаря любому отвлечению, увлечению себя чем-либо иным, интересным, привлекательным, и «субъективно значимым, согревающим душу и улучающим настроение. Необходимо не спорить, не опровергать, а утверждать. Не противостоять, а уходить обходным маневром в сторону. Не конфронтация, не война с самим собой, а мир» [7, с. 150].
Безусловно, каждый человек, в какой бы исполнительской, душевной, художественно-образной форме он ни был, попадает в зону повышенного психического напряжения и волнения, находясь как на пороге ответственного для своей жизни и карьеры события, так и в момент проведения публичного выступления, конкурса, фестиваля. В этот момент начинают возникать ненужные, мешающие мысли: «выползают на поверхность липкие страхи, состояние становится беспокойно-тревожным, словно почва начинает колебаться под ногами. Все это типичная симптоматика эстрадобоязни, которую не без оснований считают атрибутивным свойством артистической профессии» [Там же, с. 151].
Некоторые музыканты-исполнители в целях собственного успокоения и определенной разрядки считают необходимым в день концерта или накануне мероприятия найти возможность и время для успокоения, проведения саморегуляции своих чувств, использования различных психофизических приемов, способных настроить на конструктивную и продуктивную работу голову, руки, мышцы. Данные средства способствуют и защите себя от внутреннего «врага», ликвидации возможного вхождения с ним в прямое или непосредственное соприкосновение. Часть музыкантов говорят о необходимости введения в свою практическую деятельность физических занятий, занятий йогой, которые также упрощают, в какой-то мере, процесс сценического волнения, делают его более мягким, гибким, способствующим успешной реализации.
Однако самым важным фактором удачного преодоления сценического волнения является нейтрализация мучений и сокрушений относительно возникающих проблем со стороны собственного психического состояния, так как, «во-первых, внутренний дискомфорт от этого только усиливается, боль углубляется, душевный мрак сгущается. Во-вторых, явления, о которых идёт речь, вполне естественны» [Там же, с. 152]. Данные явления периодически возникают у каждого человека, так как актуальность приобретают разнонаправленные внутренние силы, стремления и побуждения. То есть, тезис, который мы приводили ранее относительно выискивания положительных аспектов сценического волнения, является вполне конструктивным и актуальным. Механизмы, срабатывающие в процессе возникновения сценического волнения, сплетаются между собой, взаимопроникают, образуя сложные психические соединения, происходящие на глубинных уровнях подсознания.
Еще одним, не менее важным фактором, влияющим на неконструктивное самоистязание относительно собственных музыкальных способностей в процессе игры на сцене, является меланхолия (грусть, чувство неудовлетворенности, трагедийность мироощущения). Все вышеперечисленные критерии могут как ухудшить процесс сценического волнения, так и настроить его на объективнопрофессиональный лад. В частности, здоровое чувство неудовлетворенности собственной игры влечет за собой постоянное развитие музыканта, его стремление к постижению глубин исполнительского мастерства. Однако этот факт, безусловно, может и пагубно сказаться на росте музыканта как профессионала, специалиста. Недаром множество выдающихся преподавателей рубежа XIX-XX столетий всячески приветствовали в процессе обучения своих студентов регулярные концертные выступления, выучивание сочинения на протяжении 2-3 месяцев с момента знакомства с музыкальным материалом, не больше. Впоследствии, спустя год или два, профессора предлагали своим подопечным вернуться к изучаемому ранее материалу. Как правило, выучив и дойдя до своего исполнительского максимума, сочинение, которое «отложили» на некоторое время, начинает звучать гораздо продуманнее, профессиональнее.
Навязчивые состояния способны настроить человека на самоуглубленность и самососредоточение, что также может как положительным, так и отрицательным образом сказаться не только на процессе сценического волнения, но и всем развитии музыканта в целом. Безусловно, представителям анализируемой профессии необходимо практиковать в своей деятельности самоуглубленность и самососредоточенность, так как данные факты способствуют максимальному раскрытию возможностей музыканта. Тем не менее, благодаря этим качествам, если перестать контролировать их природу, в сознании исполнителя может возникнуть регулярная необходимость в проверке и перепроверке собственных способностей, усилий, возможностей, что приведет к большим недостаткам в работе.
Для полноты картины необходимо понимать, что процесс сценического волнения стал актуальным далеко не в наши дни. Задолго до XXI столетия множество выдающихся музыкантов уже не раз поднимали данный вопрос, пытаясь разобраться в ее структуре, стремясь научиться работать с этим чувством. Так, А.Г. Рубинштейн вспоминал, что в молодости в исполнительстве ему не доставляло проблем анализируемое понятие. Однако в дальнейшем ситуация кардинальным образом изменилась. Память стала подводить, опасения за нее усиливались с каждым разом. В результате данных особенностей музыкант начал испытывать и определенную робость, раздражительность, нервозное состояние, неконтролируемое возбуждение во время игры, что и является сценическим волнением.
Другой, не менее известный музыкант, композитор и педагог С. Майкапар считал необходимым условием стабилизации сценического волнения точность и выровненность ритма. Композитор писал: «Плохой, неточный ритм, ничем не оправданные ускорения, недосчитанность пауз, длинных нот – все эти недостатки во время исполнения имеют еще ту особенность, что сами по себе вызывают <...> волнение; спокойствие и самообладание исчезают под влиянием этих неровностей и появляется именно то волнение, которое я назвал злым гением исполнителя. Таким образом, возникает своего рода “заколдованный круг”: игровая аритмия усиливает волнение; оно, в свою очередь, ведёт к дальнейшим ритмическим неточностям» [8, с. 176].
Конечно же, наряду с данными факторами, стабилизации сценического волнения способствует и правильно поставленное, упорядоченное дыхание. Неспособность контролировать собственное дыхание приводит к следующим последствиям: «учащается сердцебиение, усиливается напряженность, ужесточается “артистическая лихорадка”. Разумеется, далеко не каждый эпизод исполняемого произведения позволяет музыканту вспомнить о дыхании. Чаще всего исполнителю просто “не до этого”. Приучая себя сознательно в таких местах к медленному, равномерно глубокому дыханию уже в домашней работе, исполнитель в большой мере обеспечивает предотвращение неприятных и мешающих его творчеству приступов волнения на эстраде» [Там же, с. 168].
Как утверждал С. М. Майкапар, для того чтобы музыканту избежать сценического волнения, необходимо абстрагироваться от ситуации концертного выступления, по возможности, отвлечься от данных мыслей. Подобного мнения придерживался и В. Сафонов, который был уверен, что выполнение всего необходимого на сцене не зависит от профессионализма музыканта. Один из учеников пианиста вспоминал: «За два дня до экзамена нам работать строго запрещалось, а для того, чтобы кто-нибудь не соблазнился и не сел играть, Сафонов назначал у себя дома сбор всему классу в восемь часов утра. Сам он, как бы ни был занят, тоже на этот день освобождался.
На всех нас у него была заготовлена еда, и он вместе с нами отправлялся за город <...>. За городом мы проводили целый день, домой возвращались настолько утомленными, что никому и в голову не могло прийти сесть играть. Играли мы только на следующий день; вечером накануне экзамена была репетиция, а на следующий день – экзамены» [9, с. 143].
Такой выдающийся музыкант, как Ф. Шаляпин, также испытывал серьезное волнение, находясь на сцене. Исходя из слов вокалиста, он волновался даже в тех случаях, когда в сотый раз пел одну и ту же арию в театре. Некоторые исследователи утверждают, что возможной причиной такой реакции было не совсем удачное исполнение роли Руслана в Мариинском театре (1895 год). Безусловно, все мучения, происходившие с ним в этот момент, музыкант не мог забыть еще довольно продолжительное время: «Мне несколько дней после спектакля было просто совестно ходить по улицам и приходить в театр. Но нет худа без добра. У начинающего артиста есть очень опасные враги – домашние поклонники, которые настойчивыми голосами говорят ему об его необыкновенном таланте. Молодой артист теряет линию собственной оценки и начинает радоваться тому, что он представляет собою в искусстве нечто замечательное» [10, с. 85]. Вскоре вокруг Шаляпина стали разворачиваться бури восторгов, он оказался в центре всеобщего обожания. Однако музыкант не переставал испытывать особенную душевную тревогу перед каждым выходом на сцену. Тем не менее, стоит отдельно упомянуть и тот факт, что в своих мемуарах Шаляпин не говорил о постоянных стенаниях по поводу сценического волнения. Вероятно, сцена без волнения уже не казалась ему настоящей сценой.
Все же, если Шаляпину сценическое волнение не мешало нести свой талант и трактовку произведения аудитории, но в истории музыкально-исполнительского искусства существуют примеры, когда музыканты претерпевали серьезные потери в аналогичных ситуациях. В частности, К. Н. Игумнов. Его ученик, Я. И. Мильштейн, писал, что Игумнов всю свою сознательную жизнь переживал серьезное сценическое волнение. Однако часть исследователей утверждают, что в данном случае могла свою лепту внести основная деятельность музыканта, конкретно – педагогическая. В современном искусствоведении бытует мнение, что педагоги чаще и больше концертирующих музыкантов испытывают сценическое волнение. Причиной тому могут быть абсолютно объективные факторы: преподавателей с большим интересом и увлечением слушают их ученики, пристально следят за каждым движением рук, мимики, дыхания. Помимо того, что ученики наблюдают за поведением педагогов на сцене, исполнением ими разнообразных сочинений, они также в кулуарах обсуждают своих преподавателей, комментируют их игру. Именно эти критерии и усложняют исполнение преподавателями на сцене любых произведений. Преподаватели априори должны быть на высоте на сцене, быть лучшими из лучших, их игра должна отличаться филигранной точностью, звуковой и виртуозной основой. По этим причинам возникает и повышенная нервозность, тревожность, особенное отношение к собственной игре. Сам К. Н. Игумнов говорил: «Ведь почему на эстраде бывает страшно? Потому, что думаешь: а вдруг не удастся! Волнуешься оттого, что боишься быть ниже себя. Быть ниже себя в присутствии и на глазах знакомых, коллег и, главное, учеников» [11, с. 174]. Тем не менее, Игумнов тут же отвечал на собственный вопрос: «Когда исполнение становится стандартизированным, то и волнения не бывает. Но будет ли такое исполнение живым – не знаю. Когда не ошибаются, то уже не живут» [Там же, с. 175].
Своеобразную перекличку со словами Игумнова можно увидеть и в высказываниях Г. Р. Гинзбурга, который считал, что музыканту необходимо испытывать незначительное волнение перед сценой, иначе его игра превращается в спокойное и безответственное отыгрывание нот. Для Гинзбурга, собственно, как и для многих других музыкантов, необходимо было чувствовать реакцию зрителей на собственную игру: «Когда я играю на эстраде, мне может быть сначала трудно – я еще не разыгрался, а, главное, я еще не знаю – как ко мне слушатель относится» [12, с. 129]. Однако как только наступает момент связи музыканта со зрителями, актуальность приобретает своеобразный «ток», благодаря которому ощущения от сцены у музыканта резко меняются в лучшую сторону: «Волнение становилось страшно приятным, вы чувствуете, как любое ваше намерение, вот это звучание, эти образы – все это полностью доходит, вас до конца понимают, вам делается еще приятнее, и вы играете все лучше и лучше» [Там же, с. 130].
Одновременно Савшинский отмечает, что «длительная сосредоточенность – нелегкая задача. Без интереса, дисциплины и умения она быстро ведет к утомлению» [Там же, с. 105]. По этим причинам даже на самом простом музыкальном материале исполнителю следует настраивать себя на самоотдачу: «отрешения от честолюбивых желаний и нетерпеливости расчета на обязательное преодоление всех трудностей, от надежды, что то или другое должно» [14, с. 130].
Определенное несогласие у Савшинского вызывал тезис Г. М. Когана, согласно которому «путь к точности лежит через ошибку» [15, с. 165]. Ленинградский пианист в своей монографии «Работа пианиста над музыкальным произведением» негативно высказывался относительно этого тезиса: «Как можно совместить боязнь случайных ошибок с их воспеванием до призыва: "Старайтесь ошибиться!"» [16, с. 129]. Однако музыкант не учел, что комментарий касался выработки «бросков» в процессе отработки виртуозности пассажа, воспитанию навыков автоматизации.
Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что настоящий артист должен быть всегда готов импровизационно откликнуться на механические и акустические свойства инструмента, зала, отреагировать на происходящее и предпринять ряд действий, которые способствуют еще большему улучшению звучания произведения на сцене. Сценическое волнение не является исключительно негативной частью музыкально-исполнительского процесса. Оно необходимо для реализации художественной мысли, трактовки произведения, сценического поведения музыканта. Однако современным исполнителям необходимо контролировать данный процесс, учиться овладевать им, находить определенные критерии для регулирования происходящего на сцене. Нынешнему поколению музыкантов не стоит забывать, что множество выдающихся музыкантов – их предшественников всякий раз, выходя на сцену, испытывали сценическое волнение. Тем не менее, они научились находить в этом состоянии и плюсы, выявили для себя определенный алгоритм действий для успешного выполнения собственного видения произведения на сцене. И их бесценный опыт – отличное подспорье для лучшего понимания процесса сценического волнения.