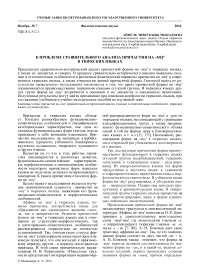К проблеме сравнительного анализа причастия на -mi§ 4 в тюркских языках
Автор: Мешадиева Айнель Энвер Кызы
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (144), 2014 года.
Бесплатный доступ
Эта статья посвящена сравнительно-историческому анализу формы причастия, которая заканчивается на -mi§ 4, встречающейся в тюркских языках, их диалектах и суб-диалектах. В этой статье раскрыты сходные и отличительные черты, а также различные фонетические варианты и этимология формы причастия, заканчивающиеся на -тц 4 в современных тюркских языках. Основной вывод исследования заключается в том, что область формы причастия сосредоточена в основном на огузской группе тюркских языков. В тюркских языках других групп форма причастия, заканчивающаяся на -тц 4, встречается главным образом в их диалектах и письменных памятниках. Полученные результаты могут быть использованы для описания морфологии тюркских языков, составления учебников, учебных и методических пособий.
Participle ending in -тц 4
Короткий адрес: https://sciup.org/14751398
IDR: 14751398 | УДК: 811.512.1
Текст научной статьи К проблеме сравнительного анализа причастия на -mi§ 4 в тюркских языках
Причастие в тюркских языках обладает богатым разнообразием функциональносемантических особенностей и специфических категориальных характеристик; как одна из сложных функциональных форм глагола, всегда привлекает к себе внимание языковедов. Причастия исследовались на материале азербайджанского, турецкого, узбекского, башкирского, якутского, кумыкского, татарского, чувашского и других языков.
Несмотря на то что в этих работах причастия анализируются в различных аспектах, функционально-семантические характеристики, морфологические и синтаксические особенности некоторых причастных форм тюркских языков не получили должного исчерпывающего освещения. К таким причастиям относится форма на -тг§4 .
Целью нашего исследования является изучение грамматической сущности причастия на -тг^4 в тюркских языках, выявление его функционально-семантических и морфологических особенностей.
Аффикс на -тг^4 в тюркских языках, помимо причастия, употребляется также для образования как прошедшего времени глагола, так и деепричастия. Развитие причастной формы на -тг^4 в тюркских языках как в отношении ее структурно-морфологических, так и категориально-семантических особенностей рассматривается тюркологами не полностью установленной. Так, относительно статуса формы на -тг^4 в пратюркском языке некоторые языковеды полагают, что она восходит к праязыковому периоду, другие – к периоду после распада праязыка. В этой связи примечательно высказывание И. В. Кормушина: «Известные трудности представляет интерпретация неравномер-
ной распределенности форм на - туз и -gan по тюркским языкам, не совпадающей с границами классификационных групп, а также неодинакового функционально-семантического облика одной и той же формы даже в близкородственных языках и т. п.» [11; 173]. Несомненно, рассматривая форму на -тг^4 в тюркских языках, мы в очередной раз убеждаемся в достоверности его мнения.
Так, исследуемая причастная форма преимущественно функционирует в тюркских языках огузской группы (азербайджанский, турецкий, гагаузский, в туркменском языке – редуцирована). Из северо-восточных языков эта форма продуктивна в якутском языке, в тувинском и тофаларском языках представлена лишь в морфологически составном виде. В узбекском языке форма на -тг^4 редуцирована, в уйгурском языке – непродуктивна. Однако она довольно продуктивна в древнеуйгурском языке. В северозападной группе тюркских языков причастие на -тг^4 зарегистрировано лишь в форме единичных лексемных заимствований.
Происхождение причастной формы на -тг^4 неоднозначно трактуется в лингвистической литературе. Аффикс на -тг§4 возводится Н. К. Дмитриевым к самостоятельному монгольскому слову - та1/-те1, где монгольским гласным - а, -е корреспондируют тюркские гласные -ы, -и, звуку л - ш [7; 181]. А. Н. Кононов дает свою трактовку аффикса на -тг§4. Так, по его мнению, данная форма состоит из двух частей -im + is. А. Н. Кононов также отмечает, что форма на -тг^4 некогда целиком соответствовала по значению форме на -ган, и в какой-то, видимо довольно поздний, период происходит сужение значения формы на -мыш, причем определен- ную часть ее функции выполняет форма на -дык [9; 35]. В языке орхоно-енисейских памятников древнетюркской письменности рассматриваемый аффикс встречается в двух вариантах: -mi^4 и -mis4. Следует отметить, что данная форма в орхоно-енисейских памятниках, в отличие от тюркских письменных памятников позднего периода, в атрибутивной функции употребляется довольно часто.
Причастная форма на -mi§4 характерна для тюркских языков огузской группы и является одной из древних причастных форм. В других тюркских языках (в частности кыпчакской группы) данная форма является непродуктивной и заменена причастием на -ган/-ген .
В отличие от некоторых тюркских языков, в языке орхоно-енисейских памятников данное причастие употребляется в основном залоге. Например, в современном азербайджанском языке посредством аффикса на -mi§4 образуются в основном причастия страдательные прошедшего времени: asilmi§ §akil - повешенная картина и т. д.
В орхоно-енисейских памятниках, как и в современных тюркских языках, имеют место случаи субстантивации причастия на -mi^4 . Субстантивированные причастия на -mi^4 в рассматриваемых памятниках принимают преимущественно аффиксы принадлежности 3-го лица: йағмысы – приставший, тимиси – сказанное [10; 7] и т. д. Небезынтересно отметить, что причастие на -mi^4 в субстантивированной форме встречается также в современном башкирском языке: язмыш – судьба, тормош – жизнь, бул-мыш – сущность и др. [1; 96–97]. На наш взгляд, данный факт свидетельствует о том, что причастие на -mi§4 функционировало в древнебашкирском языке. В башкирском языке, а также в его диалектах данная причастная форма заменена причастием на -ған . В большинстве диалектов кумыкского языка вместо формы на -mi^4 также употребляется причастие на -ган [2; 17], [3; 21].
Данный аффикс широко распространен в тюркских языках в качестве аффиксов причастия - yazilmi§ kitab (азерб.) - написанная книга , прошедшего повествовательного времени – китоп йазилмыш (узб.) – книга написана, отглагольного имени – geçmiş – прошлое (ту-рец.), oxumuş – образованный (азерб.).
Употребление рассматриваемого аффикса в значении причастия и прошедшего повествовательного времени преимущественно характерно для азербайджанского языка. Аффикс на -mi^4 в азербайджанском языке участвует при образовании причастия прошедшего времени, передающего: а) действие, которое относится к близкому прошедшему, б) действие, которое относится к давнопрошедшему, в) действие, которое относится к прошедшему – настоящему. Интересно отметить, что в азербайджанском языке причастие на -mi^4 в отдельных случаях выражает желание с оттенком зложелания: ba^i batmi§ - чтоб он умер; evi yixilmi§ - чтобы у него разрушился дом и др.
Обращает на себя внимание следующая особенность причастной формы на -mi§4 в азербайджанском языке. Так, в отличие от других причастных аффиксов тюркских языков, рассматриваемый причастный аффикс образует причастие преимущественно от глагольных основ страдательного залога. Рассмотрим пример: Ortadan nazik kandirla baglanmi§ kagizlari da götürdü – Он также взял бумаги, связанные тонким шнуром [19; 42].
В современном азербайджанском языке причастные формы на -mi^4 не употребляются в качестве дополнения, подлежащего и именного сказуемого. Факты субстантивации причастия на -mi§4 наблюдаются довольно редко, а также в рассматриваемом языке данная форма почти не сочетается с падежными формами. Причастия азербайджанского языка имеют категорию лица, времени, залога, отрицания.
Форма на -mi§4 в староазербайджанском языке также была достаточно продуктивной. Например: Bu yixilmi§ konlumi abad qilsan vaqtidir - Время излечить мое раненое сердце [20; 278]. Посредством аффикса на -mi§4 начиная с VIII века образовывались собственные имена тюркских и уйгурских каганов: Tutmi§, Kut Bulmi^ и др. Аффикс на -mi§4 , по поверьям тюркских народов (чтобы ребенок жил долго), употреблялся при образовании антропонимов: Satilmi^, Toktami^ (в переводе с некоторых тюркских языков на русский термин Toktami§ означает: с азербайджанского и турецкого языков – спокойный, успокоенный, сдержанный ; происходит от глагола – азерб. toxtamaq, турец . toktamak – успокоиться, утихать, сдержаться, стать легче, стихнуть (о боли) . В основе данного термина лежит не только имя известного в истории ХIV века золотоордынского хана Тохтамыша. В настоящее время бытует также термин «Тохтамыш» как название адыгского княжеского рода (Тохътэ-мыщхэ «Тохтамышевы» ногайского общества (или мелкой орды)) и их аула (Тохтамышевские ногайцы и аул Тохтамышевский). Термин «Тох-тамыш» выступает в ономастике не только в качестве антропонима, но и топонима. Например, названия рек, горы и ущелья в бассейне р. Кубань (Тохтамыш, правый приток р. Кубань, Тохтамышские горы). Топонимический пласт с именем Тохтамыш в адыгской и ногайской ономастике связан не с собственным именем самого крымского хана, а с собственным именем одного из внуков Инала – родоначальника всех адыгских князей, сыном Унармеса Тохтамышем. В качестве топонима рассматриваемый термин наблюдается также в турецком языке: деревня Тохтамыш в городе Адана и т. д.
Причастия на -mi^4 в тюркских языках выступают в роли определения как главных, так и второстепенных членов предложения.
Причастная форма на -miy4, образованная от непереходных глаголов, в современном гагаузском языке употребляется в форме основного залога, причастия же, образованные от переходных глаголов, выступают лишь в форме страдательного залога.
Приведем примеры: Саадышта да бир бӱӱк колач, ӱстӱндä ӱч мум йанэр, ортасында бир пишмиш таук айакча дурэр – У крестного отца на свадьбе большой каравай хлеба, на нем горят три свечи, а посредине жареная курица стоит на ногах; Вар мы топланмыш бибер ä? – Есть ли собранный перец? и т. д. [14; 235].
Рассматриваемая форма в гагаузском языке, субстантивируясь, может сочетаться с аффиксами множественного числа, принадлежности, падежей, а также аффиксом-послелогом - лан, -нан . К примеру, Аллахымыза аданмышын вармыш – У тебя, оказывается, есть (нечто) обещанное нашему Богу [14; 236].
Некоторые причастия на -miy4 в гагаузском языке перешли в разряд имен существительных: ӱӱренмиш – ученый и т. д. [14; 236].
В современном турецком языке, подобно азербайджанскому языку, форма на -miy4 относится к причастиям прошедшего времени: yayanmiy yillar - прожитые годы, gorulmemiy yerler - неу-виденные места и т. д.
В отдельных случаях в турецком языке зарегистрированы случаи субстантивации причастной формы на -miy4 : geqmiy - прошлое, dolmuy -маршрутка и т. д. [18; 249].
В отличие от современного туркменского языка в письменных памятниках туркменского языка XIII-XIX веков форма на -miy4 встречается довольно часто. В туркменском языке эта форма заменена аффиксом на -ан/-ен. Непродуктивность формы на -miy4 в современном туркменском языке мотивируется в тюркологической литературе изобилием синонимических рядов и в отношении грамматических форм. Так, в Грамматике туркменского языка 1970 года отмечается: «...если в тех или иных тюркских языках закрепились какие-то определенные формы причастия прошедшего времени, то в туркменском языке имеются все формы (в том числе и древние) причастия прошедшего времени: -ан/-ен, -ган/-ген, -дык/-дик, -дук/-дүк, -мыш/ -миш, -муш/-мүш и -мадык/-медик, -маган/ -меген, -ман/-мəн» [5; 361].
Форма на -miy4 в современном туркменском языке преимущественно выступает в форме прошедшего времени глагола. В качестве причастия данная форма встречается в отдельных случаях. Например: гечмиш эдебиятымыз – наша литература прошлого и т. д. Помимо этого встречаются субстантивированные формы причастной формы на -miy4 в туркменском языке: окумыш – ученый [5; 362] и т. д. В туркменском языке форма на -miy4 принимает как словоиз- менительные (личные, падежные), так и словообразовательные аффиксы (-лы/-ли, -ек). Небезынтересно отметить, что в туркменском языке, в отличие от других тюркских языков огузской группы, аффикс -miy4, удваиваясь, субстантивируется и передает значение – слухи. Рассмотрим пример: Бир мыш-мыш бар – Есть какие-то слухи [5; 362].
Относительно синтаксических функций причастной формы на -miy4 в рассматриваемых памятниках туркменского языка следует отметить, что она в предложении выступает в качестве подлежащего, сказуемого, определения. Приведем примеры: Билменем мен бу оянмыш ятган ыкбалуммудур? – Не знаю я, эта проснувшаяся, может, моя судьба? (в роли подлежащего); Мени элтип ташлажакмыш минара – Говорят, что меня бросят в минарет (в роли сказуемого); Дүзе гирип гɵрдүм, олтурмыш чилтен – Выйдя в поле, увидел сидевших чилтенов и т. д. [6; 18–20].
В письменных памятниках туркменского языка форма на -miy4 выступает в фонетических вариантах -муш, -мүш; -мыс, -мис, -мус, мүс и употребляется в значении как причастия, так и прошедшего времени глагола. Например: ачыл-мыш гүл (в письменных памятниках туркменского языка) – ачылан гүл (в современном туркменском языке) и т. д. [6; 7]. Известно, что между причастием и определяемым словом, как правило, не вставляются другие слова. Однако в письменных памятниках туркменского языка между причастием и определяемым словом наблюдаются прилагательные, числительные и т. д. Например: Исгендер Жемшид салдырмыш бейик биналар гɵрүнүр – Виднеются высокие здания, построенные Искандером Джемшидом [6; 21].
Несмотря на то что причастие на -miy4 характерно для тюркских языков огузской группы, эта форма встречается также в некоторых других тюркских языках, в частности в староузбекском языке. В роли причастия данный аффикс выступает лишь присоединившись к глаголу -tur с деепричастием на -а/-е . Рассмотрим примеры: кïладурмïш – делающий, аладурмïш – берущий и т. д. [17; 148].
Форма на -miy4 в современном узбекском языке в причастной форме почти не употребляется.
В письменных источниках каракалпакского языка XIX - начала XX века форма на -miy4 является малопродуктивной: кɵрмиш – увидевший и т. д. [16; 22].
Причастная форма на -miy4 в мишарском диалекте татарского языка иногда встречается в значении имени действия или отглагольного существительного: Берничə йыл йермешем йук-ка цыкты – Мои хлопоты в течение нескольких лет пропали даром; Нинди укымыш аласын инде алай йɵрɵп? – Какие уж знания получаешь, разъезжая так? [12; 200].
Исследуемая причастная форма изредка наблюдается также в южном диалекте башкир- ского языка. Рассмотрим несколько примеров: азмыш - лит. aзFaн - бродяжный, блудный, ко-рамыш - кopaFaн - составленный из лоскутков и т. д. [12; 68]. Отметим, что в отдельных случаях в башкирском литературном языке встречается форма на -тг§4: диал. йенмеш - лит. ен-меш - победивший, одержавший верх; упрямый своевольный и т. д. [12; 68].
В современном якутском языке причастию на -тг§4 соответствует форма на -быт . Данная форма встречается в якутском языке в трех фонетических вариантах: -быт, -мыт, -пыт . Она также имеет отрицательную форму на -батах. Например: буспатах моонньо^он - несозревшая смородина, уорэ^ин бYтэpбит о^о - ребенок, окончивший учебу, и т. д. [4; 232]. Подобно тюркским языкам огузской группы, посредством этого причастного аффикса в якутском языке образуется прошедшее время. В якутском языке имеют место случаи субстантивации рассматриваемой причастной формы: Балтыгар хотторбута олус кыНыылаах - Очень обидно его поражение перед младшей сестрой и т. д. [4; 232].
Субстантивированная форма на -тг§4 имеет место также в языке памятников тюркоязычной литературы XIV века (« Хосров и Ширин » Кутба, « Гулистан бит-турки » Сефа Сараи, « Мухаббет-наме » Хорезми): йемиш - фрукт ; куванмыш - радость; кэлмиш - приход, явление и т. д. [8; 17]. Отметим, что исследуемый аффикс в данных памятниках в основном употребляется во временном значении.
Форма на -mis4 в чувашском языке (в данном языке встречается в фонетическом варианте -маш/-мёш) сохранилась лишь в субстанти вированных словах, например: пётмёш - конец и т. д. [15; 9]. Данный аффикс в чувашском языке является заимствованным, а исконным считается вариант на -мад/-мёд : курмад - судьба и т. д. Вариант на -мад/-мёд в современном чувашском языке употребляется редко, в основном встречается заимствованная форма на -маш/-мёш. Отметим, что причастия на -мад/-мёд, -маш/-мёш в чувашском языке перешли в разряд имен существительных: димёд - еда, кушанье; плоды, овощи; сравним: др.-тюрк. – йимиш, уйг., узб., кирг., азерб., тур. - йемиш.; кыркмыш, кырык-мыш - жеребенок-стригунок и т. д. Посредством аффикса на -маш/-мёш в современном чувашском языке также образуются производные глаголы: кёрмеш - заниматься, возиться с кем-чем-либо и т. д. Глаголы на -маш/-мёш в основном зафиксированы в диалектах и говорах чувашского языка.
Форма на -мыш в тюркских языках огузской группы (исключение составляет туркменский язык) по сравнению с причастной формой в чувашском языке на -маш/-мёш является наиболее продуктивной.
Проведенный сравнительно-исторический анализ позволил нам выявить целый ряд морфолого-семантических и синтаксических признаков причастной формы на -тг§4 в тюркских языках. Наиболее широкое употребление данное причастие находит в тюркских языках огузской группы (исключение составляет туркменский язык). В тюркских языках других групп форма на -тг§4 выступает в основном либо в субстантивированной форме, либо во временной форме глагола.
ON COMPARATIVE ANALYSIS OF PARTICIPLE ENDING IN -MI§4IN TURKIC LANGUAGES
This article is devoted to the comparative-historical analysis of the participle form ending in -mış4 encountered in Turkic languages, their dialects, and sub-dialects. In this paper similar and distinctive features, as well as different phonetic variants, and etymology of the participle form ending in -mış4 in contemporary Turkic languages are revealed. The main conclusion of the research is that the area of the participle form in focus is limited mainly to the Oghuz group of Turkic languages. In Turkic languages of other groups the participle form ending in -mış4 occurs mainly in their dialects and written monuments. The obtained results can be used to describe morphology of the Turkic languages, to compile textbooks, teaching and methodical manuals.
Список литературы К проблеме сравнительного анализа причастия на -mi§ 4 в тюркских языках
- Ахметов М. А. Глагол в языке орхоно-енисейских памятников (в сравнительном плане с современным башкирским языком). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978. 131 с.
- Гаджиахмедов Т. И. Янгикентский говор кайтагского диалекта кумыкского языка: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Махачкала, 2005. 21 с.
- Гаджиева М. А. Фонетические и морфологические особенности отемишского говора кумыкского языка: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Махачкала, 2006. 27 с.
- Грамматика современного якутского литературного языка. М.: Наука, 1982. 496 с.
- Грамматика туркменского языка. Фонетика и морфология. Ашхабад: Ылым, 1970. Ч. 1. 503 с.
- Гузычыев Т. Причастия в письменных памятниках туркменского языка XIII-XIX вв.: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Ашхабад, 1971. 24 с.
- Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М.: Изд-во восточной литературы, 1962. 606 с.
- Керимов А. Словообразовательные аффиксы в языке памятников тюркоязычной литературы XIII века (на материалах «Хосров и Ширин» Кутба, «Гулистан бит-турки» Сефа Сараи, «Мухаббет-наме» Хорезми): Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1979. 20 с.
- Кононов А. Н. Турецкая глагольная форма на -мыш//Ученые записки ЛГУ 1939. № 20. Вып.1. С.34-49.
- Кулиев А. Неличные формы глагола в языке орхоно-енисейских памятников (в сравнении с азербайджанским языком): Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Баку, 1978. 28 с.
- Кормушин И. В. Глагольные формы на -myš и -gan в истории тюркских языков//Вопросы советской тюркологии: Тезисы докладов и сообщений. Ашхабад: Отд-ние лит-ры и языка Академии наук СССР, 1985. С. 173-174.
- Махмутова Л. Т. Опыт исследования тюркских диалектов (мишарский диалект татарского языка). М.: Наука, 1978. 271 с.
- Миржанова С. Ф. Южный диалект башкирского языка. М.: Наука,1979.302 с.
- Покровская Л. А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М.: Наука, 1964. 298 с.
- Филиппов А. Л. Причастие в чувашском и огузских языках (опыт сравнительно-исторического исследования): Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Чебоксары, 2004. 24 с.
- Хамидов Х. Каракалпакский язык XIX -начала XX в. по данным письменных памятников: Автореф. дисс.. д-ра филол. наук. Нукус, 1990. 42 с.
- Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. 276 с.
- Ediskun H. Yeni turk dilbilgisi. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1963. 413 s.
- Ѳ liyev V. Azsrbaycan dilinds feli sifst, metodik gostsri. Baki: ADPU ns§ri, 1989. 64 s.
- Mirz szads H. Azsrbaycan dilinin tarixi morfologiyasi. Baki: Azsrbaycan dovlst tsdris-pedaqoji sdsbiyyati nsriyyati, 1962. 370 s.