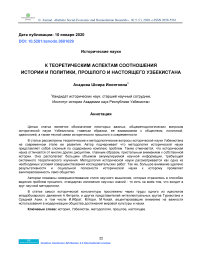К теоретическим аспектам соотношения истории и политики, прошлого и настоящего Узбекистана
Автор: Асадова Шоира Иноятовна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 5 (7), 2020 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является обозначение некоторых важных, общеметодологических вопросов исторической науки Узбекистана, главным образом, ее взаимосвязи с обществом, политикой, идеологией, а также тесной связи исторического прошлого и современности. В статье рассмотрены теоретические и методологические вопросы исторической науки Узбекистана на современном этапе ее развития. Автор подчеркивает что методология исторической науки представляет собой сложный по содержанию комплекс проблем. Также отмечается, что историческая наука отличается от многих других дисциплин, главным образом, пристальным вниманием к собственной истории. Она располагает большим объемом аккумулируемой научной информации, требующей системного теоретического изучения. Методология исторической науки рассматривается как одна из необходимых условий совершенствования исследовательских работ. Так же, большое внимание уделено результативности и социальной полезности исторической науки к которому проявляет заинтересованность само общество. Автором показаны совершенствование стиля научного мышления, которые отразились в способах видения проблем прошлого, стандартах изложения научных знаний - то есть на всем том, что входит в круг научной методологии. В статье смысл исторической конъюнктуры прослежено через труды одного из идеологов младобухарского движения А.Фитрата, и других представителей интеллектуальных кругов Туркестана и Средней Азии, в том числе И.Ибрат, М.Кори, М.Чокай, акцентировавшие внимание на важности использования в модернизации общества достижений мировой культуры и науки.
История, Узбекистан, методология, прошлое, настоящее
Короткий адрес: https://sciup.org/14114717
IDR: 14114717 | DOI: 10.5281/zenodo.3601629
Текст научной статьи К теоретическим аспектам соотношения истории и политики, прошлого и настоящего Узбекистана
Общеизвестно, что методология исторической науки представляет собой не только сложный по содержанию комплекс проблем, но и недостаточно разрабатываемое историографией проблемнотематическое направление.
Нет необходимости доказывать, что историческая наука отличается от многих других дисциплин, главным образом, пристальным вниманием к собственной истории. Она располагает большим объемом аккумулируемой научной информации, требующей системного теоретического изучения. А сами историки проявляют устойчивый интерес к методологическим проблемам научного познания как по причине их же «методологической инертности», так и потому, что методология является одним из необходимых условий совершенствования исследовательских работ. И, конечно же, к результативности и социальной полезности исторической науки проявляет заинтересованность само общество.
II. МЕТОДОЛОГИЯ
В статье использованы принцип ценностного подхода, историко-генетический, историкотипологический, компаративистский культурно-антропологический и междисциплинарные методы исследования.
III. ОБСУЖДЕНИЕ
В контексте исследуемых в настоящей статье аспектов, прежде всего нельзя не сказать, что историческая наука вполне естественно «подвержена» исторической конъюнктуре [2]. Задаваясь вопросом, - чем для Узбекистана является историческая конъюнктура, сформулируем следующую обобщенную «формулу». В процессе своего общественно-исторического развития узбекскому народу предстоит полностью осознать, а затем реализовать на практике задачи духовно-просветительского, нравственного определения смысла Жизни и смысла Истории [3].
Данный процесс, имеющий как объективно-онтологический, так и прагматический смысл, «приводит в движение» принципиально новые для республики идейные конструкты - независимость, суверенитет, собственный путь развития, возрождение духовно-нравственных ценностей, рыночные реформы, политическая либерализация, демократия и т.д. Без их практического воплощения невозможно с высоких идеалистических позиций говорить о существовании нации, как таковой. Иными словами, без переосмысления и категориальной переоценки собственного исторического прошлого народ Узбекистана в условиях динамично меняющегося мира не сможет не только развиваться, но и, по большому счету, полнокровно существовать - наравне с другими членами международного сообщества.
Вышеприведенный посыл можно подкрепить положениями основоположника немецкой классической философии Г.В.Ф.Гегеля (1770-1831): «История совершается в духовной сфере...» и «субстанциональным [в контексте Истории] является дух и ход его развития» [4]. Несколько в ином ракурсе, но практически в том же смысловом ключе ранее и позднее Г.В.Ф.Гегеля говорили отечественные историки и просветители Узбекистана. Так, яркий представитель передовой мысли Туркестана начала ХХ века М.Бехбудий в ряде публикациях неоднократно поднимал вопросы истории, бытия, исторического просвещения и образования.
®ф
AttnbuUoti LSlAtematisnal Г« В* 4.0)
В одном из своих сочинений, по времени относящемся к 1914 году, он высказал не потерявшую своей актуальности и практической значимости мысль: «Надо изучать историю, чтобы знать о народах отсталых и прогрессивных, о государствах-завоевателях и об исчезнувших правительствах, чтобы быть уведомленным о причинах исчезнувших и побежденных пророков, религий и народов.
Надо изучать историю, чтобы знать - каким образом развивалось и росло мусульманство и почему ныне мусульмане пришли в упадок? И что составляет возможности и средства для самоутверждения и прогресса?». То есть, как писал М.Бехбудий, «чтобы познать Мир, чтобы быть совершенным и счастливым, надо читать и знать историю» [5].
Смысл исторической конъюнктуры также можно проследить в трудах одного из идеологов младобухарского движения А.Фитрата. Сетуя на крайнее невнимание и невежественное отношение к историческому прошлому со стороны представителей мусульманского духовенства и просветительства, он отмечал: «...около двухсот лет уже прошло, ... как бухарские ученые стали заниматься только чтением написанных на полях книг объяснений (значений) слов..., они дошли в этих бесполезных занятиях до того, что совершенно забыли о названиях полезных наук» [6]. Фактически, А.Фитрат вел речь о необходимости модернизации знаний, использования позитивного научного опыта в протекавших на тот момент общественно-политических, социально-экономических и духовно-культурных процессов.
Аналогичные либо схожие точки зрения в отношении взаимосвязи истории и современности высказывали некоторые другие представители интеллектуальных кругов Туркестана и Средней Азии, в том числе И.Ибрат, М.Кори, М.Чокай, акцентировавшие внимание на важности использования в модернизации общества достижений мировой культуры и науки. По их мнению, в условиях ХХ века необходимо было выйти из состояния отсталости и культурной изоляции, создать соответствующие предпосылки для обретения независимости [7]. В этом, очевидно, и состоит смысл «исторической конъюнктуры». Каждое поколение людей «по-новому» и «по-своему» осмысливает собственный исторический путь, что называется, «с высоты прожитых лет». Однако некоторые ученые отождествляют историческую конъюнктуру с конъюнктурой политической. Хотя, в принципиальном отношении последняя применительно к истории, как к науке вряд ли должна иметь однозначно отрицательный смысл. Являясь легитимным выразителем своего социума, любая политическая система, в общем-то, «в праве» оценивать и переоценивать историческое прошлое предшествующих систем, внося необходимые изменения в традиционный, казалось бы, уклад общественных отношений [8].
Все это вместе взятое должно сказываться на качестве стиля научного мышления, способах видения проблем прошлого, стандартах изложения научных знаний - то есть на всем том, что входит в круг научной методологии.
Однако, как отмечали Д.Алимова и Э.Каримов, «в сфере отечественной исторической и других общественных наук накопилось немало нерешенных проблем, особенно в методологической работе. Принято считать, что историк-исследователь, как правило, слишком поглощен своими специальными вопросами, чтобы всерьез заняться более общими и широкими проблемами исторического познания, которыми, дескать, должны заниматься методологи и социологи. Но надлежащих кадров у нас еще нет, и никто из историков пока не осмеливается брать на себя решение вопросов методологического характера» [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Целью статьи является обозначение некоторых важных, на наш взгляд, общеметодологических вопросов исторической науки Узбекистана, главным образом, ее взаимосвязи с обществом, политикой, идеологией, а также тесной смычки исторического прошлого и современности.
На примере России и отчасти Туркестанского края начала ХХ века можно проследить, как происходило тесное переплетение политической и исторической мысли. Наблюдалась не только политизация исторической науки (мысли), но и «историзация» политико-идеологической борьбы [9]. Неотъемлемым атрибутом политической полемики было апеллирование к историческому опыту, интерпретировавшемуся различными политическими кругами, конечно же, по-своему.
Вследствие этого усиливались различия между понятиями «историческая наука» (профессиональная деятельность) и «историческая [не научная] мысль» (практически любые высказывания и обывательские оценки прошлого) [10].
Представляется, что политики «имеют право» оперировать «историческими формулами», а историки - давать оценки общественно-политическому развитию нации, расстановке политических сил, их взаимовлиянию и, в конечном счете, воздействию политического процесса на общество, равно как и на формирование новых историко-политических концепций и соответствующих методологических воззрений. Другое дело, что между «объективностью» и «субъективизмом» существует весьма тонкая грань. Преступив ее однажды, можно вольно или невольно начать манипулировать историческими фактами, формулировать далекие от истины «исторические конструкции», обслуживающие сиюминутные политические цели.
Историческая наука, очевидно, не может оперировать так называемым принципом «политкорректности», применяемым в реальной политике, потому что он может стать «инструментом бесконечного переписывания» истории и заведомых спекуляций в политике. А, значит, в сути своей история может стать антинаучной и даже антиобщественной категорией. Наверняка, принцип «политкорректности» в истории «требует» замалчивания/сглаживания многих исторических событий, смягчения остроты общественных проблем. Насколько это необходимо? Не заденет ли это чувств отдельных (этнических, религиозных и иных) групп населения [11]? Тем более, как писал известный французский историк М.Блок, «когда отблески страстей прошлого смешиваются с пристрастиями настоящего, реальная человеческая жизнь превращается в черно-белую картину» [12]. Между тем, задача исследователя, по М.Блоку, состоит в том, чтобы «просто понять человека прошлого», то есть абстрагироваться от соблазна перенести историю на современные реалии [13].
В свою очередь очевидной представляется корреляция прошлого и современности, в отношении чего британский историк А.Тойнби, использующий в исследовательской практике одновременно исторический и политический дискурсы, писал: «Когда изучаешь историю ушедших поколений, приходится мысленно воскрешать эти мертвые поколения в своем воображении. Представить себе, какими они были в жизни, можно только по аналогии с тем, что мы знаем о живых, то есть о наших современниках. По этой причине совершенно необходимо, чтобы всякий историк стоял одной ногой в современной истории, независимо от того, устремлен ли его научный взор в эпоху создателей пирамид или эпоху позднего палеолита... Если бы одновременно с “Обзорами” [14] я не писал “Постижение истории” [15], я был бы лишен самого эффективного инструмента, который был нужен мне для умственной реконструкции давно умерших обществ» [16]. Приведенные точки зрения убеждают, что линии «прошлое-современность» и «история-политика» в определенном смысле достаточно тесно взаимосвязаны и, очевидно, имеют общую смысловую нагрузку. Что это означает?
-
1. В общесистемном виде современность можно квалифицировать как политику (текущий политический момент), подразумевающую взаимоотношения между элитными и общественными группами, борьбу за власть, экономические, культурно-образовательные, научные, социальные и иные стратегии, отношения внутри социума и т.п. Политика, как известно, определяет текущее и дальнейшее развитие конкретных сообществ, а история - отражает политику прошлого.
-
2. Как история отражает политику прошлого и формирует «идеологию современности», так и текущая политика, собственно, выстраивает отношение социума к прошлому, к бытию и духовности, преломляя все это через призму не только конкретных реалий, но и исторической реминисценции, вытекающей из современных реалий.
-
3. Между современностью/политикой и историей/прошлым существует система ценностных, гносеологических и многих иных коррелятивных отношений, включая ментально-психологические, идейно-духовные и организационно-функциональные связи, объективно необходимые для диалектики и практики. Историзм, познаваемость, объективность, активность творческого отображения действительности и т.п. принципы познания являются сутью указанных выше взаимоотношений, основополагающим моментом которых выступает тезис, что общество, накапливая в ходе своего исторического развития огромные пласты материальной и духовной культуры - своеобразных «носителей» результатов познания, выступает в качестве познавательного субъекта [17].
Некоторые исследователи выступают против политизации и идеологизации исторической науки [18]. Однако отсутствие политико-идеологических компонентов, несмотря на безусловную вредность их «тоталитарных» форматов и содержания, сужает функциональную нагрузку истории, сводя ее задачи к банальной фиксации, описанию фактов и событий прошлого в их логической последовательности. Но ведь история как наука посредством исследовательской практики формирует национальное самосознание и за счет «отделения зерен от плевел» в историческом фокусе объективно способствует взращиванию духовности, гражданственности, патриотизма. То есть всего того, что конструирует национальную идею. И историческая наука, и историческое образование утверждают в сознании людей определенную идеологию, преломленную, помимо прочего, через призму прошлого.
С одной стороны , если подходить к истории как к комплексу научно-мировоззренческих знаний, то это выглядит, в общем и целом, правильно. Однако в данном случае речь идет о включении исторической науки в систему государственной политики.
С другой стороны , историческая наука, несмотря на вышеуказанную позицию, принадлежит к разряду так называемых «идеологических дисциплин». От качества интерпретации исторических фактов зависит не только текущее состояние дел в политике, экономике, культуре и т.д., но и, собственно, перспектива развития, духовно-нравственного прогресса конкретного этноса (нации)/государства/сообщества людей.
В этой связи представляется, что нынешняя оценка реалий «научной и общественной ориентации» исторической науки не может быть оформлена вопреки знанию об обществе и происходящих в нем тенденций [19]. На этом фоне нонсенсом выглядят некоторые зарубежные характеристики, не учитывающие переходного состояния общества и самой исторической науки. Одни утверждают, что современная наука развивается в условиях полного развала прежнего коммунистического режима и является оплотом «антинаучных сил» [20]. Другие склонны полагать, что историческая наука «обслуживает» нынешние режимы [21]. А с точки зрения третьих авторов, «лучшей частью» исторической науки являются ее «марксистско-ориентированные разработки» [22].
Рассматривая данный аспект в более объемной плоскости (с учетом опыта прошлого и задач нынешнего этапа), очевидной представляется предельно широкая корреляция по условной и в данном случае сугубо теоретической линии: «история - идеология - политика - история - ...» [23]. Если говорить об Узбекистане, то во многом эта «линия» объясняет сущность современного периода развития республики в условиях национально-государственной независимости. Осуществлением «естественного пересмотра», казалось бы, устоявшихся в предшествующие годы духовно-исторических ценностей реализуется важная функция - «историческая коррекция» нации на долгосрочную перспективу [24].
Общеизвестно, что после распада СССР народы бывших республик Средней Азии и Казахстана (Центральная Азия) столкнулись с серьезными проблемами. Помимо социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, имеющих особую остроту и несомненную практическую значимость, к ним следует отнести проблемы политического характера, в том числе национализм, местничество и т.п. В отдельных странах региона это привело к дестабилизации (события 2005 г. в Кыргызстане) и даже трагическим последствиям (гражданская война в Таджикистане). Существовавшая в бытность СССР идеология компартии или, как еще ее принято называть идеология тоталитарного режима, «подчиняла» решение практически всех вопросов, включая национальную политику, экономическое, социальнокультурное развитие и т.д.
Развитие так называемых «национальных республик» осуществлялось по единому шаблону, унифицировавшему, а, по сути, размывавшему самобытность многочисленных «советских» этносов и народов. Безусловно, накануне распада союза эти вопросы весьма обстоятельно дебатировались в широких научных кругах [25]. Однако советское обществоведение оказалось «не в силах» переломить (либо скорректировать) необратимые процессы середины 1980-х годов в рамках так называемой «перестройки» [26].
Идеология как общественное явление и в общетеоретическом смысле наука об идеях и путях их реализации в условиях истории постсоветского периода представляет собой важнейший практический конструкт, способный дать необходимую ориентировку оказавшимся в «идеологическом вакууме» этнокультурным сообществам. Заполнение возникшей после распада союза «идеологической ниши» выполняло ключевую задачу - возникновение национальной идеи, способной сплотить все этносы, проживающие в стране. Причем, осуществить это необходимо было не только в предельно короткие сроки, но и исключая «классовый подход» и «концепцию единообразия». То есть речь идет о формулировании исторически оправданной идеологии, ключевая роль в которой отводится исторической науке. Цена вопроса состоит не только в извлечении уроков прошлого для решения актуальных задач современности, но и в самом «выживании нации». В тех условиях перед исторической наукой Узбекистана стояли задачи по воссозданию исторической памяти народа, необходимой, прежде всего, для его самосознания, самопознания и общенародного единства. В этом контексте отечественная научная историческая мысль призвана стать одним из элементов идеологии национальной независимости республики, отражающей основные цели народа и связывающей в единую «ткань» его историческое прошлое, настоящее и будущее.
Внимание развитию духовности и изучению истории в Узбекистане уделяется с самых первых лет независимости. Однако поворотным моментом в развитии отечественной историографии стало хорошо известное Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании деятельности Института истории Академии наук Республики Узбекистан» (1998), позволившее начать перестройку всей научно-исследовательской работы в области исторических знаний в соответствии с требованиями времени, реальными потребностями народа, страны и государства.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая сказанное выше, отметим, что предмет соотношения истории и политики, прошлого и настоящего остается недостаточно разработанной научной проблемой. Осмысление этих вопросов историографами и историками Узбекистана позволит не только конкретизировать сущность переживаемого страной текущего момента, но и организовать научно-исследовательскую работу в соответствии с национальной идеологией и социально-политическим заказом по созданию ясной и правдивой истории республики, формулированию оценок ее нынешнего этапа и обоснования дальнейшего развития в соответствии с концептуальной идеей: «Узбекистан - государство с великим будущим».
Перестройка в Средней Азии: Случай Узбекистана. С. 115-121).