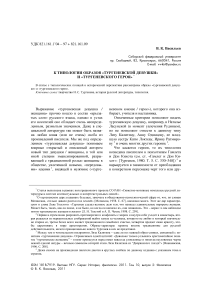К типологии образов «тургеневской девушки» и «тургеневского героя»
Автор: Васильев Владимир Кириллович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье с типологических позиций в исторической перспективе рассмотрены образы «тургеневской девушки» и «тургеневского героя».
Творчество и. с. тургенева, история русской литературы, типология
Короткий адрес: https://sciup.org/14737414
IDR: 14737414 | УДК: 821.161.1'04
Текст научной статьи К типологии образов «тургеневской девушки» и «тургеневского героя»
Выражение «тургеневская девушка / женщина» прочно вошло в состав «крылатых слов» русского языка, однако в устах его носителей оно обладает очень неопределенным, размытым значением. Даже в специальной литературе так может быть названа любая юная (или не очень) особа из произведений писателя. Мы же под определением «тургеневская девушка» понимаем впервые открытый и описанный автором новый тип девушки / женщины, в той или иной степени эмансипированной, разрывающей с традиционной ролью женщины в обществе, увлеченной новыми, «передовыми» идеями 1, видящей в мужчине («турге- невском юноше / герое»), которого она избирает, учителя и наставника.
Означенные критерии позволяют видеть тургеневскую девушку, например, в Наталье Ласунской (в момент увлечения Рудиным), но не позволяют отнести к данному типу Лизу Калитину, Анну Одинцову, ее младшую сестру Катю Локтеву, Ирину Ратмирову 2 и очень многих других героинь 3.
Что касается героев, то их типология возведена писателем к психотипам Гамлета и Дон Кихота (см. ст. «Гамлет и Дон Кихот»: [Тургенев, 1980. Т. 5. С. 330–348]) 4 и варьируется в зависимости от преобладания в конкретном персонаже черт того или дру-
* Статья выполнена в рамках интеграционного проекта СО РАН «Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы в системе контекстуальных и интертекстуальных связей».
гого. Интересующий нас тургеневский герой получил от автора определение – «лишний человек». Честь литературного открытия «лишнего» по праву принадлежит А. С. Пушкину, но у И. С. Тургенева свои заслуги: он осуществил исключительно глубокий психоанализ данного типа в его исторической трансформации на протяжении нескольких десятилетий. Творчество писателя в целом можно определить как психоаналитическую «студию», исполненную блистательных «этюдов» – препараций внутреннего мира «новых» лиц русской действительности.
Эти лица появляются в сочинениях 1840-х гг. (в наиболее детальной разработке – в повестях) и заканчивают свою литературную жизнь в поздних произведениях писателя: в романе «Новь» (1876), в «стихотворениях в прозе».
В конкретных произведениях в системе взаимоотношений «тургеневская девушка – тургеневский герой» могут быть в различной степени актуализированы те или иные мотивы-характеристики. Под пером начинающего автора персонажи не столько действуют, сколько исповедуются и излагают свои взгляды. Характеристика героя повести «Дневник лишнего человека» (начата в 1848 г.) Чулкатурина убийственна, если учесть, что пережитое им относится к «целому поколению» (А. А. Григорьев). Этот «темный уездный человек» вышел из недр природы «неспособным даже к жизни» (4, 169).
«Я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним на сем свете» (курсив в цитатах здесь и далее наш. – В. В.). Находя, что слово «лишний» по отношению к его тридцатилетней жизни выражает «строгую истину», Чулкатурин продолжает: «Лишний – именно. К другим людям это слово не применяется… Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние… нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись… конечно. Но бесполезность – не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово “лишний” не первое приходит на язык. А я… про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний человек – да и только. Сверхштатный человек – вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с неждан- ным и незваным гостем» (4, 172–173). Финалом «маленькой комедии» (!) – жизни Чулкатурина явилась его смерть в ночь… с 1 на 2 апреля в родовом поместье Овечьи воды.
В начатой ранее повести «Переписка» (1844–1854) 5 автором представлена пара – тургеневская девушка и тургеневский юноша. Исследователи совершенно справедливо видят в Алексее Петровиче С. тип «лишнего», двойника Чулкатурина.
«Странный человек», «философ» «лет под тридцать» 6, герой «Переписки», по самоопределению, – «урод» и «собственный свой паук» (5, 27, 26). Героиня Марья Александровна Б., 26-летняя «чудачка» и «философка» – явление для провинциальной русской жизни 30-х – начала 40-х гг. 7, несомненно, экзотическое, сформированное по иностранному образцу. Это явствует, например, из описания того, как относятся к ней окружающие: «Иные утверждают, что я сплю с латинской книгой в руках и в очках; другие – что я умею извлекать какие-то кубические корни; ни одна из них не сомневается в том, что я исподтишка ношу мужскую одежду и вместо “здравствуйте” отрывисто говорю: “Жорж Занд!” 8 – и негодование на философку возрастает» 9 (5, 34) и пр.
Тургеневский юноша пишет родствен ной душе : «Не бойтесь: я не стану вам навязывать никаких великих истин, никаких глубоких взглядов; у меня нет их – этих истин и взглядов . Я стал добрым малым – право. Мне скучно <…> мне просто мòчи нет как скучно. <…> Мне, право, кажется, что мы можем сойтись…» (5, 25).
Ответ-монолог Марьи Александровны (как и все сочинение) представляет собою откристаллизованный психоаналитический текст, раскрывающий сущность психологического состояния и взаимоотношений героя и героини 10. Положение в свете неудовлетворенной домашней жизнью девушки, сама ее судьба все-таки зависит от избранника, и «свое окончательное образование» она получает от мужчин. Уже при вступлении в жизнь ей мало одного веселья. «Она многого требует от жизни, она читает, мечтает… о любви. <…> для нее это слово много значит. Я <..> говорю не о такой девушке, которой тягостно и скучно мыс -лить ... Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа тоскует… Наконец он является: она увлечена; она в руках его как мягкий воск. Всё – и счастье, и любовь, и мысль – всё вместе с ним нахлынуло разом; все ее тревоги успокоены, все сомнения разрешены им; устами его, кажется , говорит сама истина; она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится, любит. Велика его власть в это время над нею!.. Если б он был героем, он бы воспламенил ее, он бы научил ее жертвовать собою, и легки были бы ей все жертвы! Но героев в наше время нет ... Всё же он на -правляет ее куда ему угодно; она предается тому, что его занимает, каждое слово его западает ей в душу: она еще не знает то -гда, как ничтожно, и пусто, и ложно может быть слово, как мало стоит оно тому, кто его произносит, и как мало за -служивает веры!»
Итог, который следует «за первыми мгновениями блаженства и надежд», – разлука. «Счастлива та девушка, которая узнает тотчас, что всему конец, которая не тешит себя ожиданием! Но вы, храбрые, справедливые мужчины, большей частью не имеете ни духа, ни даже желания сказать нам истину. вам спокойнее обмануть нас... Впрочем, я готова верить, что вы сами себя обманываете вместе с нами» (5, 29–30).
Отвергая традиционную женскую участь: «муж, дети, горшок щей; за мужем и детьми ухаживать, а за горшком наблюдать» (5, 35), Марья Александровна не уверена в правоте своих убеждений и очень боится остаться
«старой девушкой». Казалось бы, ей это и не грозит. Выйти или не выйти замуж – это зависит только от её решения. Сосед-остряк «лет сорока пяти» объяснился и сделал ей предложение. Сосед помоложе – «образованный, с состоянием», «человек хороший» – тоже влюблен в нее. Родные желают их брака. Препятствие тому – суд «гордого сердца» героини-эмансипе: он «так вял и мелок, все желания его так ограничены». Чувствуя превосходство возлюбленной, он… «как будто радуется этому». Ее же это отталкивает: «я его уважать не могу» (5, 32, 38).
Алексей Петрович вступил в переписку, потому что он «не живет», а жить и любить ему очень хочется. Узнав, что у него появились соперники, он советует Марье Александровне: «обоих за борт!» (5, 39). Однако его обещанному приезду к ней, как и последующему любовному роману не суждено было состояться. Алексей Петрович пустился за границу вслед за танцовщицей, в которую неожиданно влюбился, впал как рыцарь в оцепенение от этой любви 11, и словно бы случайно… умер от чахотки. Марья Александровна, стоит полагать по ее последнему январскому письму, осталась одинокой – «занесенной кругом мертвыми сугробами снега», с тоской, от которой и «пропасть можно» (5, 44).
В «Переписке», как в зародыше, сокрыты фактически все потенции любовных романных историй, участниками которых будут тургеневский герой и тургеневская девушка. Сверхтипичность этих лиц выражена словами Алексея Петровича, обращенными к корреспондентке: «…ваше положение можно, пожалуй, назвать трагическим. Но знай -те, не вы одни в нем находитесь: почти нет современного человека, который бы не на -ходился в нем» (5, 37).
Семнадцатилетняя Наталья Ласунская находится в той же клишированной ситуации – «на пороге жизни», и выбирает она тоже между тремя: Рудиным, Корчагиным 12
и Волынцевым. В конечном итоге волей демиурга романного мира автор заставляет Ласунскую избрать не «философа» и «гения» Рудина, а Волынцева – человека, не обладающего интересом к книгам, блестящим умом и красноречием, «простого», занятого прозаическими хозяйственными заботами. Исчерпывается ли логика такого выбора традиционным объяснением: тургеневский герой – личность слабая, он не выдерживает испытанием любовью и т. п.?
На основе 1) глубинного психоанализа писатель всякий раз определяет 2) будущее героя и героини, перспективу их дела и су -деб, а вместе с этим - перспективу, кото -рой чревато будущее России. Впервые вполне ясно эта перспектива выявлена как раз в романе «Рудин».
В первоначальном финале (роман был опубликован в 1-м и 2-м номерах «Современника» в 1856 г.) Дмитрий Рудин – герой жизненной драмы, неудачник, – после всех безуспешных попыток найти для себя дело едет в деревню – «угол есть, где умереть» (5, 319). Читателю остается за пределами открытого финала домыслить смерть героя.
Причина того, что «дела на земле» Рудину не нашлось, не только в том, что почва / среда в России «недобрая» (5, 320), но и в глубинных психологических потенциях героя 13. Куда ведут эти потенции, выясняется во втором финале, продолжении романа (в издании 1860 г.): автор круто меняет течение жизни Рудина и заставляет его погибнуть в революционном Париже на баррикадах. Мы обращались к анализу данного эпизода (см.: [Васильев, 2008. С. 354–359]). В данном случае в связи с его ключевыми смыслами нас интересует именно проблематика будущего – судьба Натальи Ласунской, непосредственно зависящая от ее выбора.
Заканчивая карьеру романиста, Тургенев еще раз обратился к сцене гибели Дмитрия Николаевича и объяснил читателю смыслы его поступка, сделал он это в романе «Новь» (см.: [Одиноков, 1971. С. 76–78]). Собственно, писатель дал художественный автокомментарий в последнем романе к роману первому.
Нежданов в письме к другу Владимиру Силину размышляет о будущем, о том, что делать? «Типографию завести секретную? Да ведь книжек и без того уже довольно. И таких, что говорят: “Перекрестись да возьми топор”, и таких, что говорят: “Возьми топор просто” <…> Или уж точно взять топор?.. А на кого идти, с кем, зачем ? Что -бы казенный солдат тебя убубухал из ка-зенного ружья ? Да ведь это какое - то сложное самоубийство! Уж лучше же я сам с собой покончу <.> Право, мне ка-жется, что если бы где - нибудь теперь про -исходила народная война - я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (освобождать других, когда свои несвободны!!), но чтобы покончить с собою ...» (9, 327-328). Нежданов сам покончил с собой, пустил пулю в грудь, Рудин, в формулировке Тургенева, «сложный самоубийца». Он поехал туда, где идет война (революция), и получил то, что искал, – пулю в сердце.
Гибель Рудина автор лишил подлинно жертвенного, героического (донкихотовско-го) 14 и трагического 15 начала. Второй финал романа явился художественным итогом идеологических споров, прояснения направлений Тургенева и членов редакции «Современника», Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского 16 и Н. А. Некрасова (см., например: [Муратов, 1989. С. 316–340]).
В подготовленной в том же 1860 г. статье-речи «Гамлет и Дон-Кихот» 17 Тургенев представил образ революции – идеал своих оппонентов – в виде возлюбленной ДонКихота Дульцинеи. «Он любит <…> до того идеально, что даже не подозревает, что предмет его страсти вовсе не существует; до того чисто, что, когда Дульцинея является перед ним в образе грубой и грязной мужички, он не верит свидетельству глаз своих и считает ее превращенной злым волшебником. Мы сами на своем веку, в наших странствованиях, видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто (!) , в котором они видели осуществление своего идеала …» (5, 338). Как известно, Тургенев был в Париже в 1848 г. в дни восстания. Его самого как «русского шпиона» чуть не расстреляли национальные гвардейцы. Вероятно, эти странствия и имеются в виду в статье.
С финальным эпизодом «Рудина» типологически соотносится и повесть, сымпровизированная Тургеневым летом 1864 г. в Швейцарии перед двумя его молоденькими поклонницами. Ее герой – молодой человек, которого занимают «проклятые» социальные вопросы, влюбляется в двух сестер. Одна из них – экзальтированная особа, предпочла бы человека, способного на героический поступок, пошла бы за ним и жизнь свою принесла бы в жертву. Другая сестра, ум которой имеет не революционное, а практическое направление, в конце концов избрала бы жениха, подобного Волынцеву. Молодой человек, попавший в заколдованный круг, не хочет ни одну из сестер сделать несчастной и решает «покон-чить с собою самоубийством». Но дело не доходит до «ужасного исхода». «Почти накануне самоубийства, автор дает неожи-данный и в художественном отношении прекрасный исход кризису: герой его, прочитав в газетах телеграмму о ходе титанической борьбы американцев за освобождение негров, вдруг изменяет свое решение о самоубийстве и едет в Америку, где наконец и погибает за великое дело» [И. С. Тургенев в воспоминаниях…, 1988. С. 209–210].
Иван Сергеевич объяснился со своими идеологическими оппонентами вполне. Считать его позицию неопределенной не представляется возможным. Героический поступок молодого человека, как и поступок Рудина, – фикция. Это «прекрасное» в «художественном отношении» оформление того, что, по сути, ужасает своей безысходностью. Внутреннее, психологически подлинное, при этом как раз во всех смыслах ложное в таком поступке скрыто за очень эффектным внешним, которое читатель, обманувшись, готов принимать за проявление героического, жертвенного и трагического.
Наталья Ласунская «всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к темному». Встреча с Рудиным кардинально переориентировала направление ее судьбы: «Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к свету...» (5, 295). Что было бы, если бы она осталась с тем, кого хотела видеть своим «наставником» и «вождем» (см.: 5, 249)? Ей предстояло бы разделить судьбу «сложного самоубийцы».
В романе «Накануне» Тургенев дублирует ситуацию, меняя при этом итоговый мотив выбора на противоположный. «Как жить без любви? а любить некого!» (6, 184) – это главная из «страшных» дум, что мучают двадцатилетнюю Елену Стахову. Из троих «лучших» – Шубина, Курнатовского, Берсенева – она выбрала бы последнего. Но появляется Инсаров, и пораженная величием его цели – «освободить свою родину!» (6, 201) – Елена избирает его. Реальность и символика движения героев к цели, к будущему исполнены мотивов скорого и незаслуженного счастья… трагической вины (наказания Бога «свыше вины»), болезни и надвигающейся смерти. В финале сон-путешествие Елены по миру мертвых прерывается зовущим ее голосом «из бездны», в реальности оказывающимся голосом умирающего Инсарова (см.: 6, 290, 291, 295, 296 и др.).
В письме матери Елена объясняет, зачем она едет в Болгарию: «Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; <…> Вероятно, я всего этого не перенесу – тем лучше. Я приведена на край бездны и должна упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть, я его убила 18; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я искала счастья – и найду, быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина...». Как и Рудин, Елена гибнет без вести. Ее след «исчез навсегда и безвозвратно» (6, 298). То, что казалось и было светом (мгновенным) после тьмы, то, что обещало возрождение, обернулось для Елены и Дмитрия «темным призраком» (6, 291).
Жизненная ситуация «порога», «выбора» таит в себе богатую драматургию, для художника – бесконечные возможности варьирования. В очередной раз Тургенев обращается к ней в романе «Новь». Марианну Синецкую судьба сводит опять же с тремя мужчинами: Неждановым, Маркеловым и Соломиным. Как и в «Рудине», Тургенев «не позволяет» героине соединить свою жизнь с самоубийцей, он оставляет ее с Соломиным (двойником Волынцева). Марианна и Соломин «поражены, потрясены, уничтожены», «но не изумлены» самоубийством Нежданова. «Как мы этого не предвидели?» – думалось им; и в то же время им ка залось , что они … да , они это предвидели » (9, 377). Им не зря казалось. Они подсознательно желали, чтобы Нежданов ушел, не мешали ему уйти – он был лишний между ними. Так строит текст автор.
В большинстве работ тургеневедов рассмотренные нами герои отнесены к лучшим людям своего времени, возведены в степень нравственного идеала. Несмотря на отсутствие прежних идеологических установок, традиция воспроизведения привычных штампов жива и сегодня.
Особенность творческого метода «преимущественно реалиста» (по самоопределению) Тургенева состояла в том, что он «не облекал в образы предвзятых идей», не занимался сочинительством, а исследовал «живую правду людской физиономии». Художник старался «не только уловлять жизнь во всех ее проявлениях, но и <…> понимать те законы, по которым она движется и которые не всегда выступают наружу», «всегда оставаться верным правде, не довольствоваться поверхностным изучением, чуждаться эффектов и фальши», сквозь «игру случайностей добиваться до типов». Высшей победой художника Тургенев считал умение «выразить сущность своего народа и времени, достичь такого совершенства, чтобы читатель мог размышлять о произведении, как о жизни вообще» (см.: [Курляндская, 1972]. Осуществление данных принципов позволило Тургеневу создать удивительно объективные, многомерные тексты, которые действительно поддаются такому же анализу, как и сама жизнь. И не только поддаются, но и требуют его.
Устами «психолога», героя «Переписки» автор определил предмет своего исследования: « Наша психология сбивается на патологию ; наша психология – это хит ростное изучение законов больного со стояния и больного развития , до которых здоровым людям нет никакого дела … » (5, 27). Через три десятка лет в «Предисловии к романам» (1880) Тургенев признавался, что в романных героях его интересовало « смутное , психологически сложное , даже болезненное » и это « не частный факт , а выдвинуто из глубины недр своих тою же самой народной , общественной жизнью » (9, 396).
Одна из центральных тем творчества писателя – самоубийство. В рассказе «Отчаянный» Тургенев писал в том числе о нигилистах: «жажда самоистребления, тоска, неудовлетворенность...» (10, 46). В рассмотренных повестях и романах автор как раз и разрабатывает студию русского самоубийства, самоуничтожения в разных его вариантах. Главные лица этой студии – тургеневский герой и тургеневская девушка.
Наталья Ласунская обладает несомненным обаянием, каким может обладать привлекательная семнадцатилетняя девушка 19. Но в ее характере кроются разрушительные потенции. «Знаете ли, что именно такие девочки топятся, принимают яду и так далее? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти в ней сильные и характер тоже ой-ой!» (5, 261), – говорит о ней Лежнев. В соответствующих обстоятельствах отмеченные потенции характера героини вполне могли бы получить развитие. То, что она вышла замуж за Волынцева, обыкновенная жизнь с ним – для нее благо и не только с точки зре- ния Тургенева, а благо в принципе. Тургенев просто очень хорошо понимает законы жизни и подчиняет им свою героиню для того, чтобы она… просто осталась жива. Наталья не любит Волынцева, и он не надеется «внушить ей чувство», но ждет «только мгновенья, когда она совершенно привыкнет к нему» (5, 244). При последней встрече с Лежневым Рудин задает вопрос о ее замужестве – счастлива ли она. Тот отвечает «да» (см.: 5, 318). Смогла бы так сказать Елена Стахова, если бы она вышла замуж за Берсенева? По крайней мере, она была бы жива. Пойдя за Инсаровым, Елена выбрала вариант «сложного самоубийства». От союза с самоубийцей «спас» Тургенев и Марианну. Она «сперва только числилась, а теперь, говорят, настоящей женой стала» (9, 385), – сообщает Паклин о ее совместной жизни с Соломиным.
Рассмотренные произведения позволяют сделать вывод, что Тургенев определяет революционную интеллигенцию как «лишнюю», ненужную для России, более того, ее рождение, по мысли писателя, вступает в противоречие с законами Вселенной. Диагноз Тургенева: народившаяся «новь» заражена некрофилией, бессознательной тягой к смерти. Писатель противопоставляет ей ценность «обыкновенной» живой жизни.
ON THE TYPOLOGY OF IMAGES OF «TURGENEV’S GIRL» AND «TURGENEV’S CHARACTER»