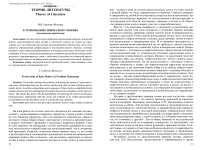К толкованию эпического мотива (постановка проблемы)
Автор: Ершова Ирина Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема определения понятия «эпический мотив», прослеживается связь мотива и эпического сюжета не только на структурном, но и на семантическом уровне. В средневековом героическом эпосе складывается определенная конфигурация и последовательность базовых мотивов,которые в свою очередь разворачивается в мотивные комплексы эпического повествования. В статье также рассматриваются основания вычленения мотива (минимальность, предикативность, связь с событием) и способы его словесной презентации (закрепленность на формульном уровне) в отдельной эпической традиции.
Повествование в эпосе, средневековый эпос, эпосоведение, эпический мотив, эпический сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14914609
IDR: 14914609
Текст научной статьи К толкованию эпического мотива (постановка проблемы)
Ни одна работа по поэтике эпоса не обходиться без понятий «мотив», «сюжет», «повествование» (нарратив), «формула». Самый узкий и точный из этих терминов «формула», хотя и ее знаменитое определение, данное в контексте теории Перри-Лорда1, многократно уточнялось применительно к разным эпическим традициям и различным жанровым формам. Сами по себе термины эти нейтральны, особой эпической специфики не содержат, используются в равной мере как фольклористикой, так и литературной традицией. Пожалуй, за аксиому можно принять лишь то, что мотив в фольклористике и эпосоведении традиционно полагается минимальной единицей сюжета. Все остальное - как вычленить, определить и описать мотив; в каких взаимоотношениях находятся мотив, сюжет и повествова-14
ние, - является даже не столько дискуссионным, хотя и это тоже, сколько в каждой работе по эпосу определяемым по-разному Ответить уверенно и завершенно на любой из поставленных вопросов почти невозможно, настолько многообразны варианты их использования в фольклористике и эпосоведении (эти области, несомненно, смежные, а потому и об общности терминологии в них говорить уместно и даже обязательно).
Вместе с тем некоторая аморфность и нечеткость употребления терминов даже внутри этой зоны нуждается в уточнении. Причем желание уточнить и пояснить, например, термин «мотив» носит не формальный характер, а смысловой. Почти любой фольклорный мотив, часто отчетливо возводимый к мифологическому генезису, далее начинает жизнь в огромном фольклорном и литературном поле. И то жанровое пространство, в котором данный мотив оказывается и где он «работает», вносит дополнительные коннотации в его семантику и роль в конкретном сюжете. Например, поединок с чудовищем в мифологическом смысле всегда повторяет космогонический миф, те. изначальную ситуацию преодоления хаоса и утверждения упорядоченного космоса. Именно эта коннотация помогает определить меру, так сказать, «мифологичное™» любого сюжета, включающего указанный мотив. Тот же мотив поединка с чудовищем в многообразии появляется в сказке, где мифологическая праоснова несколько ретушируется, а вот сказочная борьба добра и зла, победа доброго героя-силача над злыми, колдовскими силами (чаще всего чудовище обладает и какими-то не-человеческими, волшебными способностями) остается. Этот же мотив - частый сюжетообразующий мотив в героическом эпосе, более очевидно демонстрирующий свою связь с мифологической тематикой. Однако бедствия, причиняемые чудовищем, в эпосе не эсхатологичны в мифологическом смысле, они не угрожают космосу в целом, но вместе с тем являются необходимым условием для обретения богатырем героической славы, достигаемой за невиданные и судьбоносные для окружающего его социума деяния.
История и проблематика термина мотив изучена достаточно полно и обстоятельно2. Вместе с тем считать проблему решенной не представляется возможным. Замечание, высказанное С.Ю. Неклюдовым, кажется актуальным и сейчас: «Он [мотив] трудноуловим и трудноопределим, неясно соотношение его синтагматических и парадигматических ракурсов, морфологической схемы и текстовой реализации, универсальных структур и национально специфических редакций, его корреляций с компонентами модели/картины мира, с одной стороны, и с «общими местами» текста, loci communes, с другой»3. Тем не менее, каждому из исследователей эпоса приходится если не оговаривать специально, то продумывать для собственных нужд почти весь список функций и трактовок мотива. Соответственно, и в нашем случае тоже необходимо выделить те характеристики мотива, которые имеют непосредственное отношение к героическому эпосу, к изучению его сюжетосложения и повествовательных механизмов.
Во-первых, исходя из дихотомической природы мотива, намеченной еще А.Н. Веселовским, продолженной и оформившейся в трудах
В .Я. Проппа, А.И. Белецкого, фольклористы и эпосоведы полагают мотив единством семантического и формального, что позволяет вычленять его обобщенную, инвариантную форму и ее фабульные варианты. Как верно замечает И.В. Силантьев: «Все, что формулирует и делает автор “Морфологии сказки” далее, фактически уже выходит за рамки морфологического подхода. Исследователь разрешает проблему вариативности мотива нахождением его семантического инварианта, которому дает наименование функции действующего лица. Этот принципиальный шаг возвращает В .Я. Проппа в русло семантической трактовки мотива, но на существенно ином уровне - на уровне развития дихотомических представлений о мотиве как единице дуального статуса - языкового и речевого одновременно»4. Однако вычленение обобщенного значения повлекло за собой стремление (и возможность) создать инвариантную схему сюжета, где инвариант мотива (например, функция у Проппа, «схематический мотив» Белецкого) включается в определенную сюжетную последовательность, которая приобретает тем самым жанровый характер. Ключевую роль в оформлении дихотомической природы мотива сыграли построения А. Дандеса5. Ученый рассматривает мотив как обобщенную тематическую конфигурацию, занимающую определенное место в классификационной системе, а функцию (мотифему) - как элемент синтагматики; главное же то, что у него мотив и мотифема разнесены по двум уровням («этическому» и «эми-ческому»), Те. инвариантное схематическое представление конкретных мотивов дало возможность не только классифицировать мотивы и лучше понять их общую мифологическую и фольклорную природу, но и изучать особенности сюжетостроения и связи сюжета и жанра.
В своем семантическом значении, вычленяемом с помощью сравнительно-типологических параллелей внутри общемирового мифологического и фольклорного фонда, мотив выступает в повествовании в сюжетопорождающей / сюжетообразующей функции. В своей обобщенно-инт-вариантной форме он реализует свой морфологический потенциал как элемент определенной сюжетно-повествовательной структуры.
Во-вторых, важной проблемой оказывается само содержание мотива, т.е. что именно обозначает и обобщает мотив. Большинство фольклористов признает и подчеркивает очевидность связи мотива и события (А.Л. Бем, В.Я. Пропп, О.М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинский, Б.Н. Путилов). Мотив именно как побуждающий к динамике элемент естественным образом должен отсылать к событию, происшествию, следствием которого оказывается последующее развертывание сюжета. В.Я. Пропп подчеркивал, что мотив и функция связаны общей динамической составляющей, а функция прямо определяется «с точки зрения значимости для хода действия»6. Тем самым, для определения мотива в системе героического эпоса является решающей его предикативность, свойство мотива, неоднократно отмеченное Е.М. Мелетинским, Б.Н. Путиловым, С.Ю. Неклюдовым. Это свойство, например, подчеркнуто в следующем определении Е.М. Мелетинского: «Под мотивом мы подразумеваем некий микросюжет, содержащий предикат (действие), агенса, пациенса и несущий более или менее самостоя- тельный и глубинный смысл»7. При этом очевидно, как отмечает С.Ю. Неклюдов, «что не только действие (постоянная величина сюжета) требует тех или иных персонажей-выполнителей (переменные величины), но и, с другой точки зрения, - значение функции (предиката) зависит от аргументов (“семантических ролей”)»8.
Мотив играет решающую роль в организации эпического сюжета. При этом эпический сюжет следует понимать как комбинацию базовых сюжетообразующих мотивов, которые формируют эпический рассказ о герое-воине в отдельном произведении. Сохранившиеся большие формы средневекового героического эпоса позволяют нам вычленить единую модель эпического сюжета. Этот сюжетный инвариант реализуется в нескольких разновидностях (сюжетных типах), зависящих оттого, какая героическая коллизия продуцирует сюжет и какого типа герой ее задает (или задается ею). Эпический сюжет в каждой отдельно взятой эпической поэме/пес-ни реализует одну и ту же модель конструирования эпического сюжета, которая варьируется в зависимости от присущего данной национальной традиции базового сюжетного типа. Выделенная модель эпического сюжета включает в себя ряд сюжетообразующих мотивов, которые образуют устойчивую последовательность нескольких элементов: 1) героическая коллизия (причина, побуждающая героя к деянию); 2) путь к деянию (способ пространственного перемещения); 3) испытание / претерпевание / препятствие; 4) героическое деяние; 5) последствия деяния.
Сюжетопорождающие мотивы (базовые элементы сюжетной схемы) далее разворачиваются в повествовательной структуре в целые мотивные комплексы или «наборы мотивов» (С.Ю. Неклюдов). Каждый «пучок» мотивов или комплекс мотивов в героическом эпосе почти нерасторжим. При всей типологической общности, его точный набор складывается в конкретной национальной традиции. В своем текстуальном воплощении какие-то элементы сюжета или сегменты повествования могут быть сокращены или развернуты, какой-то элемент может быть пропущен или многократно повторен, но сюжет всегда будет последователен в своей мотивной логической очередности; логика эта обязательным образом соответствует модели эпического сюжета: героическая коллизия - путь - испытание / претерпевание - подвиг - последствия.
Так же, как и модель эпического сюжета, повествовательная структура героического эпоса может быть представлена в виде общей инвариантной структуры. Ее, помимо сюжетообразующих базовых мотивов, формируют сопутствующие мотивы и типические места. В сущности, эпическое повествование манифестирует себя в череде повествовательных мотивов, которые как бы разворачивают сюжетообразующий мотив на отдельные смысловые элементы и тем самым представляют собой звенья устойчивой последовательности, с заданным порядком очередности. Повествовательные мотивы в эпосе всегда входят туда устойчивым в своей последовательности комплексом или набором (тождественным «теме» Лорда).
Мотивы как часть повествовательной структуры эпоса относятся к уровню синтагматики повествования и являются по сути инвариантными
Новый филологический вестник. 2017. №2(41).
■^Й*^№»
мотивами; они могут быть сформулированы как в метаязыковом виде, так и в более конкретном виде такими, какими предстают в конкретном сюжете. Набор повествовательных мотивов задается основными сюжетообразующими мотивами, те. элементами эпического сюжета, а их организация и последовательность в тексте подчинена установленному порядку. Мотив в эпосе, как мы уже отмечали, по определению предикативен, а потому в повествовательной схеме он всегда предстает в виде действия, предпринимаемого героем или направленного на героя. Способ формулирования повествовательных мотивов в схематическом изложении сюжетно-повествовательной схемы героического эпоса должен соответствовать жанровой природе героического эпоса, т.е. мотив логично описывать прямыми предикативными конструкциями, где агентом выступает герой, или пассивными, где герой выступает объектом воздействия. Вот примеры такого способа описания мотива: герой собирается на битву; герой видит предсказание; герой прощается с родными/близкими; герой собирает дружину; герой делит добычу и т.д.
Таким образом, любое сюжетное повествование в эпосе разложимо на устойчивую мотивную схему. Мотивные звенья обладают содержательной цельностью и выражаются в ряде действий и поступков; эпическое повествование легко разбивается на такого рода синтагматические отрезки. У каждого мотива в отдельной национальной традиции формируется некоторое количество вариантов-воплощений, которые непременно возникают во всяком эпическом сюжете, дополняя основной сюжетообразующий мотив. Скажем, в испанской эпике мотив предсказания может быть представлен в следующем наборе вариантов: а) герой видит вещий сон; Ь) герой видит знаки, предсказывающие победу или поражение (летящие птицы); с) герой видит явления природы. Более того, повествовательные мотивы по большей части имеют закрепленное традицией формульное выражение.
Мотивы-элементы эпического сюжета - всегда сюжетопорождающие, их природа парадигматична, и они черпаются из универсального и всеобщего сюжетно-мотивного фонда. Общефольклорный мотив может быть сформулирован и даже вычленен самым разным способом (свидетельство тому разные способы номинации мотивов даже в пределах одного индекса), например, «коварная сестра», «ребенок-подкидыш», «герой делит добычу среди животных». Мотивы эпического повествования разворачивают мотивы базовые и могут выполнять различные функции - с одной стороны, сугубо формальную, т.е. сцеплять сегменты сюжета между собой, сопровождать основные сюжетообразующие мотивы и заполнять сюжетное повествование, а с другой - семантически значимую, т.е. вызывать дополнительные повороты или витки сюжета, и тогда повествовательный мотив как бы вбирает в себя общефольклорный или мифологический мотив, заставляя его работать на себя.
Общефольклорный мотив и эпический мотив обоих уровней - сюжета и нарратива - соотносятся друг с другом как содержание и форма. Мифологические или фольклорные мотивы содержательно наполняют эпико-сюжетные и эпико-повествовательные мотивы. Например, сюжето- образующий мотив во второй части «Песни о Сиде» - «герой оказывается жертвой предательства», а его конкретное наполнение - эпизод оскорбления дочерей Сида - сделан на основе контаминации сразу нескольких фольклорных мотивов: «гонимую красавицу уводят в лес и оставляют», «ложный жених на свадьбе», которые органично встраиваются в структуру эпического повествования.
Поскольку все мотивы вкладываются в определенную сюжетную модель, а соответственно и в определенную нарративную последовательность, она тоже приобретает выраженный жанровый характер, а метаязыковой характер ее описания помогает сравнительно-типологическому анализу повествовательных мотивов героического эпоса в целом. Более точное понимание законов функционирования и семантики эпического мотива применительно к героическому эпосу должно служить уточнению истории формирования эпического сюжета в различных по жанру, времени фиксации и генезису сохранившихся памятников Средних веков («песен о деяниях», хроник, малых поэтических форм эпоса).
Список литературы К толкованию эпического мотива (постановка проблемы)
- Лорд А. Сказитель. М., 1994.
- Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии. Новосибирск, 1999.
- Неклюдов С.Ю. Мотив и текст//Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996)/отв. ред. С.М. Толстая. М., 2004. С. 236-247.
- Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии. Новосибирск, 1999. С. 30-31.
- Dundes A. From Etic to Emic Units in the Structural Studу of Folktales//Journal of American Folklore. 1962. № 75. P. 95-105.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 25.
- Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 50.
- Неклюдов С.Ю. Мотив и текст//Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996)/отв. ред. С.М. Толстая. М., 2004. С. 242.
- Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. М., 2009.