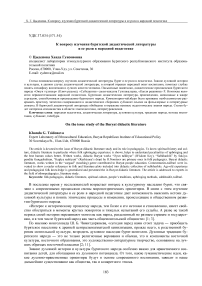К вопросу изучения бурятской дидактической литературы и её роли в народной педагогике
Автор: Цыденова Х.Г.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Теория и методика обучения гуманитарным дисциплинам
Статья в выпуске: 15, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу изучения дидактической литературы бурят и ее роли в педагогике. Знание духовной истории и культуры, в данном случае дидактической литературы, в которой отражен народный опыт воспитания, помогает глубже понять специфику воспитания и лучших качеств человека. Письменные памятники, дидактические произведения бурятского народа «Оюун тγлхюур» (Ключ разума), «Субхашиты» сакья-пандита Гунгажалцана, «Капля рашияны» Р. Номтоева являются первоисточниками народной педагогики. Бурятская дидактическая литература, произведения, написанные в жанре сургаалов, способствовали просвещению бурятского народа. Комментарии-тайлбури были призваны необходимостью раскрывать простому читателю содержащиеся в дидактических сборниках субхашит ссылки на фольклорные и литературные сюжеты. В бурятской дидактической литературе обобщены и отражены вековые педагогические знания народа. Статья будет интересна специалистам в области этнопедагогики, литературоведения.
Народная педагогика, дидактическая литература, духовная культура, традиции народа, методы воспитания, субхашит, тайлбури
Короткий адрес: https://sciup.org/148182812
IDR: 148182812 | УДК: 37.034
Текст научной статьи К вопросу изучения бурятской дидактической литературы и её роли в народной педагогике
В последнее время у исследователей возрастает интерес к культурному наследию бурят, что связано с современными процессами смены мировоззренческих ориентиров. В связи с этим изучение дидактической литературы и ее роли в народной педагогике дает возможность выяснить истоки духовной культуры и понять этнические процессы и изменения, происходящие в общественном развитии бурятского народа.
«Интерес к историческому прошлому народа, тем более к его истокам и становлению, имеет свойство обостряться в моменты крутых поворотов и тяжелых испытаний его судьбы. А разве не такой период своей истории переживают монголы как народ, разделенный по разным странам и государствам, и в том числе бурятский народ как часть общемонгольской общности» [1; 3].
По мнению монголоведа Ш. Б. Чимитдоржиева, «сегодня перед нами стоит задача ― приобщить бурятское население к древней центральноазиатской цивилизации, прежде всего, к родственной бурятам монгольской культуре, возродить духовное наследие бурят-монголов. Духовные традиции бурятского народа ― это не только религиозные верования и обычаи, это и компоненты восточной культуры, восточного образования, это художественно-литературное творчество, основанное на лучших образцах восточной классики [2; 11].
Знание духовной истории и культуры бурятского народа особенно важно для нравственного воспитания детей, для обогащения их духовного потенциала. От того, какие гуманистические идеи, какие духовно-нравственные ориентиры будут в основе современного воспитания, зависит и наше дальнейшее существование как общества, так и конкретного этноса.
«Духовная культура каждого народа включает в себя педагогические взгляды и многовековой опыт воспитания», — отмечает в своем исследовании Л. Ф. Иванова [3].
Известно, что во все времена народная педагогика обогащала общемонгольскую художественную литературу и, в свою очередь, сама обогащалась. Литературные источники достаточно убедительно показывают, что у халхасцев, бурят, калмыков принципы гуманистической народной педагогики и нравственные критерии имеют общие истоки и унаследованы от древних монголов. Так, «в прошлом калмыки, как и все монголоязычные народы и племена, воспитывали детей в духе уважения и беспрекословного подчинения родителям и старшим. Обычай обязывал как мужчину, так и женщину оказать искреннее почтение и внимание старшим по возрасту и положению, держать себя при старших корректно, не вмешиваться в их разговоры, строго осуждалась развязность при обращении к старшим. Ни один молодой человек не осмеливался попросить у старших прикурить, тем более выпить, не садился до тех пор, пока старший не скажет: садись (су)» [4].
С давних времен буряты уважительно относились к старшим, приучали детей не пререкаться со взрослыми, слушаться, уступать дорогу, не стоять спиной, всегда первыми здороваться. Также известно, что у бурятского народа есть обычай «знать 7 колен своей родословной», что воспитывало уважение к своим предкам.
По мнению Д. М. Бурхинова и Б. Ш. Молонова: «Бурятская народная педагогика уходит своими корнями в глубину веков и выражается для молодого поколения в форме улигеров, сказаний, пословиц и поговорок, загадок, песен, благопожеланий и других средств передачи мудрости народа из поколения в поколение, и вместе с тем она всегда была связана с практической деятельностью и особенностями быта жителей данной местности» [4].
Следует отметить, что у монголоязычных народов был широко развит не только фольклор, не последнюю роль в воспитании младшего поколения играла устная передача образцов дидактической литературы (афористической поэзии и сургалов).
Известный письменный памятник «Оюун түлхюур» создан в XIII – XIV вв. Как отмечает академик Ц. Дамдинсурэн, автор антологии «Ста образцов», «Оюун түлхюур» в свое время служил учебным пособием, к которому обращались после того, как овладевали азбукой. Также служили своеобразными учебными пособиями такие дидактические произведения, как «Субхашиты» сакья-пандита Гунгажал-цана, «Капля рашияны», переведенное с санскрита Р. Номтоевым, «Зерцало мудрости» Э.-Х. Галшие-ва. Данные письменные памятники являются первоисточниками народной педагогики, из них мы узнаем о духовных традициях народа, об идеале человека, о методах воспитания молодого поколения.
«Наиболее общие моральные понятия формируются в народе в рамках традиции. Понятия о честности, совести, добре, человеколюбии и т. д. на определенном этапе развития общества требуют рождения продуманной, легкодоступной и популярной книги ― книги сводов моральных и этических норм поведения и общежития. В бурятском обществе дооктябрьского периода, естественно, существовали традиционные представления о морали и этике. Наряду с устным, традиционно передаваемом из поколения в поколение представлением о правилах и нормах поведения в обществе и быту в ХIХ в. появляются и письменные памятники, претендующие стать сводами правил поведения, этики и морали. Такими книгами во II половине ХIХ в. становятся сочинения известных лам Р. Номтоева, Д. Данжинова, Э.-Х. Галшиева, Г. Дылгырова и др.», — считает исследователь Б. Д. Баяртуев [2].
Начиная с XIII–XIV вв. монгольские литераторы стали заниматься переводческой деятельностью. Необходимо отметить, что учеными ламами была переведена огромная масса литературы религиозно-светского содержания, что способствовало изменению общего характера средневековой монгольской литературы.
Неизвестный автор письменного памятника монголоязычных народов «Оюун түлхюур» (Ключ разума), написанном в жанре сургаалов, относящемся к дидактической литературе, собрал множество народных древних назидательных поучений, изречений, афоризмов. И хотя первоначально сургаалы являлись наставлениями ханам и воинам, они содержат наставления житейского характера, которые выражают обобщение практического опыта и мудрости в самых различных областях жизни.
Сургаалы как литературный жанр имели значение в XIII – XIV вв. и связывались, как правило, с именем Чингисхана. По содержанию сургаалы ― это поучения государственным мужам, которые должны обладать большой физической силой, быть твердыми в решениях, внимательными к подданным, осмотрительными с врагами и в первую очередь мудрыми и правдивыми правителями.
Важно отметить, что именно данный дидактический жанр имел особое историческое значение и повсеместное распространение не только среди монголоязычных народов, но и в странах Востока.
Академик Ц. Дамдинсурэн считает, что по своей художественной идее и жанру «Оюун түлхюур» близок к «Поучениям Чингисхана». Существует легенда, что именно Чингисхан и был автором произведения.
Поучения «Оюун түлхюур» просуществовали много веков и дошли до наших времен в измененном виде. Первоначально произведение носило чисто светский характер; в дальнейшем оно переписывалось различными переписчиками эпохи широкого распространения буддизма и, как отмечает Ц. Дамдинсурэн, светское содержание письменного памятника дополнилось многочисленными религиозными сентенциями («обрати жизнь к буддизму», «нет средства от бессмертия, поэтому следует думать о невечности (бытия)») [7].
«Сургаалы все время близко стояли к народной афористической поэзии и потому были более, чем летописи, знакомы широким массам. Сургаалы учили жить, побуждая совершать одни поступки и воздерживаться от других» [8; 68 – 69].
Большая часть произведений, переведенных с санскрита и тибетских языков, — это буддийские сочинения, однако среди них были и образцы и светской поэзии. Ярким примером являются стихи сакья-пандита Гунгажалцана, крупнейшего тибетского поэта XIII в., приглашенного в Монголию третьим сыном Чингисхана Yгэдэем. Произведение «Субхашиты» (1244) С. Гунгажалцана является образцом оригинальной тибетской литературы, переведенном позднее на старомонгольский язык. Это собрание нравоучительных афоризмов состоит из девяти «разделов знаний»: о мудрецах, богатых и знатных, скверных глупцах, единстве хорошего и дурного, добрых и дурных делах, истинной сути вещей, неподобающих вещах, обычных поступках, законах жизни по священному учению.
Четверостишиям сакья-пандиты свойственны точность и экономичность средств художественного выражения. Небольшой объем ограничивает автора, поэтому он формулирует свою мысль четко и кратко, соблюдает определенную норму композиционного построения и определенные художественные приемы.
-
С. Гунгажалцан написал свое сочинение в традиционном жанре индийской литературы «субхаши-та», имеющей давнюю историю. Вместе с распространением буддизма «Субхашиты» проникли из Индии в буддийскую литературу соседнего Тибета, а оттуда в Монголию и Бурятию. Исследователь Д. Ёндон пишет: «Все произведения, написанные в жанре субхашита… стали называться поучениями (шастрами) двух правил. Два правила предполагали в каждом сочинении двух начал ― светского и религиозного, которые соответственно обозначались обычно терминами «религиозное правило» и «мирское правило» или «божественный закон» и «людской закон». 1-я строфа субхашит раскрывает главную мысль стихотворения, а вторая ― доказывает» [4]. Индолог А. П. Баранников о жанре суб-хашит пишет: «Краткие изречения, облеченные в художественную рамку и блещущие оригинальностью мыслей и образов… Любимые темы индийских субхашит “идеи морального порядка, правила жизненной мудрости…”» [1].
-
4. Юрэ өөрыгөө магтаhанай огто хэрэггүй. Не стоит восхвалять самого себя,
На современный монгольский язык «Субхашиты» были переведены и изданы с комментариями Ц. Дамдинсурэна, бурятский перевод осуществлен Б. Батоевым и С. Буян-Дэлгэром.
В XIX в. ученый-лама Ринчен Номтоев перевел с тибетского на старомонгольский язык такие произведения, как «Субхашиты», «Каплю рашияны». Данное произведение (Капля рашияны), написанное в жанре комментарий–тайлбури, представляет собой сборник сказок, басен, притч, улигеров, иллюстрирующих стихотворные строфы субхашитов. Использование сюжетных линий национальных сказок способствовало популярности и известности данных комментариев среди народа.
Жанр тайлбури был чрезвычайно популярен в древнеиндийской литературе и затем получил широкое распространение в тибетской и монгольской литературе.
«…Композиционная структура комментария, «тайлбури» выглядела следующим образом: 1) цитата четверостишия из «Капли рашияны»; 2) примеры из тибетских и монгольских сборников переводов индийских сказок и притч в качестве пояснения смысла четверостишия; 3) мораль ― резюме [8]. Приведем пример комментария к четвертому субхашиту:
Юрэнхы бэеэ дэмы hайрхаhан тэрэ Кто попусту восхваляет самого себя, Оюун бэлигээ алдаhан үлзы хэшэггүй Тот, потерявший разум, несчастный Огсомхорхожо хохидоhон галандага мэтэ. И похож на зазнавшегося галандага
(Пер. наш. – Х. Ц. ) [8]
Краткое содержание сказки к комментарию. Птенец галандага попался в сеть, был бит и выброшен в земляную печь. Чтобы выбраться из нее, птенец начал расхваливать достоинства петуха. Польщен- ный петух помог птенцу выбраться. Освобожденный птенец начал расхваливать себя перед ласточкой, которая предложила ему свое гнездо. В это время его схватил орел и унес в когтях.
Мораль:
Охорхон ухаагаа үндэрөөр сэгнэдэг Маленький свой ум считая большим,
Омогорхуу хооhон тиимэ амитадай Подобно хвастливой пустышке человек,
Усал аюулда дайрагдан хосордог Может попасть в беду, бесславно погибнуть.
Ушар удхань иимэ түүхэтэй. Мораль такова. (Пер. наш. – Х. Ц. ) [8]
Тайлбури, основанные на сказочных сюжетах, баснях и притчах, были призваны учить людей житейской мудрости, соблюдая принципы правил светского и религиозного поведения.
Дидактические сочинения древних авторов, несомненно, составляют золотой фонд знаний о воспитании и обучении подрастающего поколения. По нашему мнению, бурятская дидактическая литература, в которой отражены вековые педагогические знания народа, может быть не только объектом научного и познавательного интереса, но и одним из действенных средств воспитания.
Список литературы К вопросу изучения бурятской дидактической литературы и её роли в народной педагогике
- Баранников А. П. Индийская филология. -М., 1959. -С. 32.
- Баяртуев Б. Д. Мотивы и сюжеты из «Панчатантры» в бурятской литературе дооктябрьского периода: дис.. канд. филол. наук. -Улан-Удэ, 1987. -С. 72.
- Бурхинов Д. М., Молонов Б. Ш. Вопросы этнопедагогики в школе. -Улан-Удэ: Бэлиг, 1994. -С. 4.
- Ендон Д. Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. -М., 1989. -С. 44.
- Иванова Л. Ф. Гуманистическая народная педагогика как основа художественно-дидактических произведений тюрко-татарских мыслителей средневековья: дис.. канд. пед. наук. -Казань, 2003. -С. 16.
- Михайлов Г. И. Литературное наследство монголов. -М., 1969. -С. 68-69.
- Очирова Г. Н. Аршаанай дуhал//Алтан гадаhан. -Улан-Удэ: Бэлиг. -С. 53-54.
- Очирова Г. Н. Сказки и притчи о животных. Комментарии Р. Номтоева к сочинению «Капля рашияны, питающая людей» Нагарджуны//Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии: сб. науч. тр. -Новосибирск, 1980. -С. 146.
- Дамдинсурэн Ц. Монголын уран зохиолын тойм. -Улаанбаатар, 1999. -С. 112.
- Чагдуров С. Ш. Прародина монголов. -Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999. -С.3.
- Чимитдоржиев Ш. Б. Бурят-монгольский этнос и монгольский мир. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ, 2001. -С. 12.
- Эрдыниев У. Э. Калмыки. -Элиста, 1980. -С. 209.