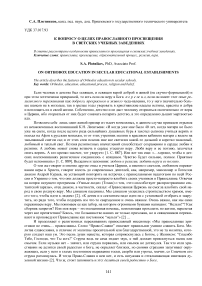К вопросу о целях православного просвещения в светских учебных заведениях
Автор: Плотников С.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (31), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности православного просвещения в светских учебных заведениях.
Православие, просвещение, образовательный процесс, религия, вера
Короткий адрес: https://sciup.org/142142235
IDR: 142142235 | УДК: 37.017.93
Текст научной статьи К вопросу о целях православного просвещения в светских учебных заведениях
О том же говорят и многие другие отцы и учителя Церкви, а именно о светлом, любовном переживании веры в Христа, говорят вплоть до современных деятелей, как, например, миссионер и богослов диакон Андрей Кураев, не устающий повторять на встречах с православными педагогами по всей России и Украине о том, что они должны просто-напросто влюбить своих учеников в Православие. Отвечая на вопрос ведущего программы «Умные люди» (Томск) о том, «что способствует распространению сектантской заразы», отец диакон, в частности, сказал: «Православная Церковь не смогла влюбить свой народ в свою родную веру. Мы слишком пассивны. Мы слишком увлеклись строительством храмов, вместо того, чтобы идти к людям» [2]. «К детям и к сектантам надо идти не с установкой отобрать и закрутить, но ради того, чтобы подарить им что-то сверхценное и очень важное. Очень важно, как мы сами переживаем веру. Мы понимаем ее как забор, на котором огромными буквами написано: “Нельзя!”? Как сборник запретов? Или моя вера – это неоценимая помощь, помогающая проходить по жизни, перелетая через все препятствия? Боюсь, что большинство наших не только прихожан, но и священников переживают и проповедуют Православие как постоянное “нельзя”» [2] …
И продолжает о религиозных переживаниях православный миссионер: «Мы православные христиане не очень… православны. Слово “Право-Славие” означает правильное умение славить Бога. Молитва славословия, в отличие от молитвы просительной или благодарственной, это не та молитва, которую создает наш ум. Это песнь души невесты, которая соприкоснулась с Богом, с Женихом: “Спасибо Тебе, Господи, что Ты есть!” Струна ведь не сама издает звук, к ней должен прикоснуться палец или смычок. Если музыки нет – значит, или струна порвалась, или смычок не дотянулся. Так что если христианин не делится своей радостью о Боге, не окрыляет близких, но своими страхами запугивает окружающих, если у него в глазах постоянное выражение тоски, скорби или угрозы, значит, со Смычком его струна разминулась. И тогда Право-Славия в нем нет, и есть натужная и отталкивающая имитация духовной жизни» [2]. Что ж, стоит запомнить и это: делиться своей радостью о Боге .
В другом случае тот же отец Андрей Кураев говорил участникам образовательных чтений: учителю ОПК «надо удержать себя от пропаганды православизма», «удержать себя от нравственного императива, от глубочайшего вторжения в жизнь ребенка. Очень хочется наставить, научить, призвать». Педагогам предлагается «перейти на интонацию постороннего аналитика, когда ты говоришь о самом дорогом для тебя, о твоей святыне». «Как тяжело на школьном уроке не назвать Христа Спасителем, Господом! “Наш Господь говорит нам.” Это в храме так можно сказать, а в светской школе: “Христос говорит своим ученикам”, подчеркиваю не нам, а Его ученикам. И вот это постоянное дисциплинирование своей речи - это тоже подвиг учителя». «Одно из двух, - продолжает отец диакон, - или мы ведем уроки духовности в школе, но тогда нужно понимать, что это будут уроки для своих. Или же церковные педагоги, входя в светскую школу, подчиняются законам светской школы, говорят на языке культурологии. И это нужно будет делать с интонацией экскурсовода..» [3]
Не входим ли мы в противоречие и, более того, не пытаемся ли мы обмануть «честной народ», говоря, что мы идем в светские учебные заведения лишь для того, чтобы поднять уровень компетентности учащейся молодежи и вообще в сфере религии, и в сфере православной культуры или христианской этики, тогда как всерьез ставим вопрос о том, чтобы «влюбить в Православие» детей? Нам представляется, что «влюбить» не означает еще вызвать веру, а только лишь, как минимум, снять страхи и предубеждения против Христа и Его Церкви, а как максимум, вызвать расположение, симпатию, ведь всякая культура и цивилизационные предпочтения строятся на чувстве симпатии и комплиментарности, а в нашем случае речь идет о симпатии к родной, но, увы, незнаемой культуре.
Не то же ли самое, но зайдя так сказать несколько с иной стороны, читаем в дневнике праведного Иоанна Кронштадтского, когда он выделяет главное в воспитании подрастающего поколения ? Святой Иоанн: «При образовании юношества о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещена очеса сердца » (Ефес. 1:18). Святой обращает внимание, что «сердце наше - первый деятель в нашей жизни», то есть полагает, что с сердца начинается «во всех почти познаниях» зрение «известных истин»: «сердце видит разом, нераздельно, мгновенно, потом этот единичный акт зрения сердечного передается уму». И так еще: «Идея принадлежит сердцу, а не уму - внутреннему человеку, а не внешнему». Отсюда святым и делается вывод: « Просвещенна очеса сердца » есть важное дело «при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности». Потом, говорит праведный отец Иоанн, будет разложение на части и другая интеллектуальная работа, но вначале вот это сердечное познание, образ, идея с безусловным расположением к предмету впечатления.
Вполне очевидно, что на переходе подростков к юности, как и в самой начальной юности, важнее всего именно просвещенна очеса сердца , влюбленность в Православие, в суть его Боголюбивую и человеколюбивую Христову, «идею» эту спасительную, творящую, живящую, чтобы открылся образ Божий как сущностное свойство человека. Создать благоприятные условия для открытия очес сердца . (Иначе: самоактуализация в себе образа и подобия Божия !) Открыть возможность духовной жизни .
Однако вернемся к позиции отца диакона Андрея Кураева. Признаемся, чего-то не хватает нам в ней, может, объяснения: а влюбленность зачем? Ведь отец диакон настаивает: «Школа не может учить духовности. Слово “духовность” должно быть табуировано для школы . Если духовность - это путь к небу, к Богу, то не дело светскому заведению быть путеводителем на этом пути , и подменять собою Церковь, и брать на себя религиозные функции» [3]. А что бы сказал отец диакон, если бы речь шла не о факультативе (или даже обычной дисциплине) «Основы православной культуры», что в Российской Федерации, а о факультативе «Основы христианской этики», что в Украине? Тоже «табуировать» слово «духовность»? Кто может представить себе эту ситуации в этике, и именно христианской этике? Но ведь и в России, вероятнее всего, дело не остановится на ОПК, хотя все-таки «табуировать» духовность и в этом курсе невозможно и не нужно.
Вообще говоря, как не согласиться с выдающимся психологом Львом Семеновичем Выготским, заметившем в своей «Педагогической психологии», что «всякое выделение нравственного воспитания кажется нам свидетельством известной ненормальности в этой области» [4]! Здесь эмоционально мы готовы были бы поставить сто восклицательных знаков - в самом деле, вдумаемся: предмет, дисциплина «Основы христианской этики». Немногие педагоги, действительно более или менее овладевшие ядром родной культуры, призваны знакомить с теми моральными взглядами и правилами, какие должны бы составлять духовную плоть и кровь человека с момента его рождения среди носителей данной культуры. Конечно, «ненормальность» весьма опасная, ибо, по справедливому замечанию психолога, «сами по себе правила морали будут представлять в душе ученика систему чисто словесных реакций, совершенно не связанных с поведением» [4]. Выготский сравнивал такую моральную воспитанность с мотором, не включенным в действие всего механизма, который «в лучшем случае. может вызвать известный конфликт между поведением ребенка и моральным правилом» [4]. Если именно это иметь в виду под тем, что, может, не совсем полно выразил отец диакон Андрей Кураев, говоря о табу на слово «духовность», то трудно с ним не согласиться.
Мы ратуем не за сами по себе «правила» христианского поведения, да и не о них прежде всего нужно вести речь, а о духовном смысле, истории и эстетической красоте Православия. Моральное воспитание должно быть незаметным, оно, как справедливо замечал Л.С. Выготский, «должно совершенно незаметно раствориться в общих приемах поведения, устанавливаемых и регулируемых социальной средой» [4]. Да, в том и проблема, что социальная среда, включая родительский дом, часто не православная, поэтому и существует некая нарочитость в том, чтобы «учить» христианской морали.
Понятно, что полноценное духовно-нравственное воспитание как всеобъемлющую систему в светском секуляризованном учебном заведении не развернуть. Мы имеем ныне некое переходное положение, но такое, в котором мы отстаиваем свое право быть христианами не только в церкви, но и везде и всегда. Что еще мы можем, кроме факультативов ли, обязательных ли дисциплин духовнонравственного цикла? Во-первых, нужно взаимодействие с родителями детей в данном вопросе, а во-вторых, предоставление детям, принимающим христианские ценности, практических условий для овладения культурой православия, в том числе и моральной культурой. Ведь существует разнообразная внеклассная, и внеурочная, и внешкольная работа, где на добровольных основах в интересном деле собираются ученики и учитель. Хорошо бы наметить и осуществить творческую связь светских и воскресных школ. Может, это станет путем для реального воцерковления детей, которые крещены, да храма не знают.
У всех, и у клира, и у мирян-педагогов, одна цель, и эта цель не может быть не духовной, потому что она реализуется в Богочеловеке Христе Иисусе и Его Церкви. Один из примеров не «табуированно-сти» духовности: Форум православной молодежи в Рязани, в числе организаторов которого Рязанская епархия РПЦ, Комитет по делам молодежи Рязанской области, Рязанский филиал Московского государственного открытого университета, Центр Православной педагогической культуры им. священника Афанасия Арбекова Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Работали секции: туризм и паломничество - форма активного отдыха молодежи; молодежные субкультуры и духовная безопасность молодежи; СМИ и православие; взаимодействие молодежных православных объединений; социальное служение молодежи. И тема духовности и нравственности на этом Форуме, как и других подобных, анализирующих и обобщающих опыт духовно-нравственного просвещения молодежи, была ведущей, и иначе быть не может [5].
«Табуировать» слово духовность попросту поздно, когда появляются дипломные работы по проблемам духовно-нравственного воспитания, кандидатские и уже докторские диссертации с той же проблематикой. Для иллюстрации сошлемся на пример той же Рязани, точнее, работы кафедры педагогики Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. С 1995 г. (!) на кафедре открыта Лаборатория альтернативной педагогики, целью которой является подготовка выпускников педагогического университета к работе в условиях альтернативных образовательных систем, и одним из двух направлений Лаборатории является «Православная педагогика и педагогическая культура в российской школе». (Обратите внимание на это официальное употребление слов: православная педагогика , причем на уровне государственного университета.) С того же года на указанной кафедре действует упоминавшийся уже Центр Православной педагогической культуры им. священника Афанасия Арбекова. Ежегодно на его базе проводятся Международные Покровские чтения. Работа в Центре ведется по самым различным направлениям, в том числе научная: ко времени написания этих строк в Центре подготовлено более ста дипломных работ, шесть кандидатских и одна докторская диссертация. Вот некоторые кандидатские диссертации: «Формирование ценностных ориентаций у подростков девиантного поведения средствами отечественной культуры» А.А. Кухтина, «Формирование духовно-нравственных ценностей отечественной педагогической культуры у студентов в процессе изучения курса “История образования и педагогической мысли”» Ю.В. Фединой, «Философско-педагогические идеи И.А. Ильина в контексте современных проблем духовно-нравственного воспитания» И.М. Коняевой, «Духовно-нравственное воспитание учащихся в системе И.П. Иванова» О.Н. Маслюк; докторская диссертация: «Теория и практика духовнонравственного становления и развития личности будущего учителя в контексте светской и православной педагогической культуры» В.А. Беляевой, которая, будучи заведующей кафедры педагогики, и возглавляет всю работу, практического и теоретического характера, по проблемам духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи [6]. Нет, решительно невозможен разговор на уровне «табуирования» в эпоху когда Русская и Украинская Православные церкви во истину становятся народными.
Попробуем найти ответ на выше поставленный вопрос о том, зачем влюбленность в Православие. Очевидно, что «влюбленность» лишь располагает к не отторжению, это - необходимое эмоциональное начало и сопровождение для продуктивности познания, хотя и познание должно приводить к радости, а не скуке, духовно-нравственному творчеству, а не табуированию (то самое «нельзя», только с другой стороны занесенное!). «Влюбленность» и для того, чтобы возможно было рано или поздно на этом отвоеванном у бездуховности камне кому-то в свободном выборе подняться от влюбленности к любви, и к вере, всерьез перейти в «свои» на добровольной основе. Словом, никакого обмана нет: чувства и мысли попросту идут рука об руку. Собственно, мы следуем за тем, как это и начиналось 2000 лет тому: «.. вы возлюбили Меня, - говорит Христос апостолам, - и уверовали, что я исшел от Бога» (Ин. 16:27).
Необходимо помочь юношам, сколько возможно для каждого из них, увидеть и ощутить христианский идеал святости и его, идеала, как минимум, не чуждость для них, как максимум, жизненную необходимость, однако без даже намека на навязывания его. При этом мы не склонны согласиться на то, чтобы не выявлять своего расположение, своего интереса, своих желаний и потребностей и своего опыта, хотя, разумеется, нужно делать это весьма тактично. Признаемся, что наша позиция такова перед учениками: «Мне бы очень хотелось - что уж тут скрывать?! - чтобы те из вас, кто еще не сделал духовный выбор, стали и верующими людьми, и православными, но я не смею ни в малейшей степени отбирать у вас свободу выбора, которую не отбирает у людей и Сам Бог, впрочем, как говорят отцы и учителя Церкви, Он печется о нашей свободе больше, чем мы» . Может, нужно еще иначе, может, нужно лучше, и гораздо лучше, но юноши умеют оценить искренность и признать твое право быть тем, кем ты есть, на чем они и для себя настаивают, лишь бы ты действительно был, а не казался. Вся «информация» идет от Личности Христа Иисуса через соборное множество личностей членов Его Церкви, в том числе и через личность педагога-христианина к личности ученика в актуальной способности педагога к реализации христианского призвания в своих отношениях (всех и всяческих отношениях, видимых воспитанниками: отношение к ним, к работе, в достоинстве личностного “Я”, профессиональной солидарности, гражданской позиции, уважении жизни). Естественно, что при этом стержнем этого великого педагогического акта должны быть абсолютные ценности христианства, выражаемые в православных идеалах святости (светская педагогика здесь говорит принципиально правильно об «осмыслении вечных вопросов жизни» как духовной работе педагога, ищущего решение проблем в соответствии с представлением о смысле жизни, только не определяет этот смысл [7]).
Священник и психолог Борис Ничипоров справедливо утверждает : «И беда, и вина, и истоки кризиса нерелигиозной антропологии состоят в том, что она понимает и исследует человека: то как психобиологическое, то как психосоциальное, то как историческое, то как деятельное существо, т.е. всегда посюсторонне, временно, суетно, здешне. И никогда: духовно, абсолютно, как данное для вечности, как образ Божий» [8, с.173]. (Еще раз: так что же и нам, православным, не духовно, не абсолютно, не как данное вечности, не как образ Божий раскрывать личность христианина в его христианской этике и вообще в его мире христианской культуры?) Иисус Христос и Его подвиг любви и есть обращение человека к духовности, абсолютности, к вечности, к образу Божию, который может и должен раскрываться внутри нас - и нас самих, и наших ближних, - для чего и должен трудиться православный педагог сознательно, ответственно, профессионально, хотя и знать свое скромное место и не открывать руками не раскрывшиеся лепестки цветов.
Как видим, ключевой вопрос, как и должно быть в педагогическом процессе, есть вопрос о смысле и цели воспитания, понимаемого в широком, да и в узком смысле слова, в нашем случае христианского просвещения в светской школе. Митрополит Антоний Сурожский в одной из бесед заметил, что икона должна стать для человека «как бы призывом, так же как текст Евангелия является призывом к тому, чтобы войти в глубинное общение со Христом, но не с изображением, не с линиями, не с красками, не со словами, а с тем, что заложено в них глубже всякой внешней выразительности или красоты и что может достичь нас, ранить в душу или исцелить» [9].
Вот эта сверхзадача: так повести свое учительское дело, чтобы создались условия для твоих учеников сейчас или позже войти в глубинное общение со Христом, с тем, что могло бы достичь их, ранить в душу или исцелить. Педагог отвечает именно и прежде всего за условия учебно-воспитательного процесса, насколько он зависим от него. Многое же происходящее в душе ученика остается и для педагога тайной, и пусть остается, ибо нельзя подменить творчество человека над самим собой творчеством учителя. Эти творчества лишь можно объединить, симфонизировать, синергизировать в единстве воспитательного идеала и целей. Очевидно, что основной предпосылкой для преображения ученика будет, как еще в таких словах объяснял митрополит Антоний Сурожский, «живой контакт, который может взволновать душу, вдохновить, нужна не просто история», так что взрослые должны «не превращать опытное знание (ребенка. - С.П .) в мозговой катехизис» [Цит. по: 8, с.143]. В самом деле, бесконечные потоки информации, как показывают исследования психологов, смещают моральные ориентиры молодежи, не давая им достаточно времени на выработку эмоциональной реакции в ответ на проявление моральных качеств других людей.
Итак, скажем словами такого многоопытного православного педагога, как В.О. Зверев, ныне являющегося директором Воскресной школы в Центре духовно-патриотического служения им. святого праведного воина Феодора Ушакова при храме Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутово (г. Москва), нужно «добиваться не умножения знаний» по предметам духовно-нравственного и религиозного цикла, «а душевного преображения учащихся с помощью этих знаний» [10].