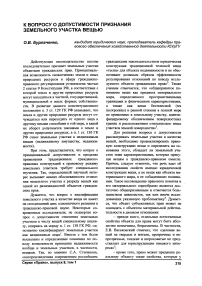К вопросу о допустимости признания земельного участка вещью
Автор: Бурлаченко О.В.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы гражданского права
Статья в выпуске: 13 (68) т.1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147149047
IDR: 147149047
Текст обзорной статьи К вопросу о допустимости признания земельного участка вещью
Действующее законодательство вполне последовательно признает земельные участки объектами гражданских прав. Принципиальная возможность «вовлечения» земли и иных природных ресурсов в сферу гражданско-правового регулирования установлена частью 2 статьи 9 Конституции РФ, в соответствии с которой земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. В развитие данного конституционного положения п. 3 ст. 129 ГК РФ указывает, что земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах, ап. 1 ст. 130 ГК РФ отнес земельные участки к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости).
При этом, представляется, что вопрос о принципиальной допустимости и пределах применения традиционных гражданско-правовых конструкций к правовому режиму земельных участков требует специального изучения. Так, определенный научный интерес вызывает анализ обоснованности отнесения земельного участка к разряду вещей как одной из разновидностей объектов гражданских прав.
Думается, что вопрос о квалификации земельного участка в качестве вещи не имеет на сегодняшний день однозначного решения в гражданско-правовой науке. Некоторые современные исследователи, не подвергая вопрос о допустимости отнесения земельных участков к числу вещей специальному анализу, опираясь на норму п. 1 ст. 130 ГК РФ, однозначно квалифицируют земельные участки как недвижимые вещЛ. Вместе с тем были высказаны и определенные сомнения по поводу возможности признания недвижимости вообще и земельных участков, в частности, вещами. Так, по мнению С.А. Степанова, «воспроизведенная современным российским гражданским законодательством юридическая конструкция традиционной телесной вещи «тесна» для объекта недвижимости и не обеспечивает должным образом эффективности регулирования отношений по поводу исследуемого объекта гражданских прав»2. Также ученым отмечается, что «общепринятое понимание вещи как предмета материального мира, определяемого пространственными границами и физическими характеристиками, а также как вещи бестелесной (res incorporales) в равной степени в полной мере не применимо к земельному участку, идентифицируемому обозначением поверхностных границ и расположением относительно иных „ 3
участков земной поверхности» .
Для решения вопроса о допустимости рассматривать земельные участки в качестве вещей, необходимо проанализировать правовую конструкцию вещи и определить на основании этого, обладает ли земельный участок теми характеристиками, которые присущи вещам в гражданско-правовом смысле. Причем, следует отметить, что речь идет об исследовании свойств именно юридической конструкции вещи, а не вещи как объекта материального мира, в ее «обыденном» понимании. Такое несовпадение правового понятия и его материального «прообраза» является достаточно общепризнанным и отмечается большинством цивилистов, так или иначе исследовавших указанную проблематику4. Думается, что объект субъективных прав может не совпадать с объектом материальной действительности в двояком отношении:
-
- прежде всего, отдельные естественные свойства объекта для права могут быть абсолютно незначимы, безразличны. В частности, Е.В. Васьковский отмечал, что «деление вещей на твердые и мягкие, прозрачные и непрозрачные, гладкие и шероховатые не представляет для юриспруденции никакого интереса»5;
-
- кроме того, право может придавать реальному объекту такие свойства, которые у
- него отсутствуют (или в равной степени -признавать имеющиеся свойства несуществующими). Такой юридический прием, получивший наименование «фикции», является одним из наиболее древних и едва ли не одним из самых эффективных.
Вместе с тем если те или иные отдельные естественные свойства объекта материального мира действительно значимы для права, то они должны, как представляется, найти свое отражение в соответствующей юридической конструкции, иначе говоря, подвергнуться правовому опосредованию, поскольку игнорирование таких качеств способно привести к весьма неблагоприятным последствиям.
Следует отметить, что в гражданско-правовой литературе акцентируются различные признаки вещи как объекта гражданских прав. Так, прежде всего, вещь характеризуется как материальный объект или предмет материального мира6, физически осязаемый и имеющий экономическую форму товара7, как определенная ценность8, как предмет, способный удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, контролироваться (управляться) ими и быть в их обладании9, а также как предмет, обладающий массой и пространством10. Особо обращается внимание на роль человеческого труда в создании или освоении вещи. Так, В.А. Белов характеризует вещи как «предметы, созданные или отвоеванные у природы человеческим трудом»11; Е.А. Суханов отмечает, что вещи являются результатами труда, особо оговаривая, впрочем, что исключение составляют земля и другие природные ресурсы12. А.А. Евстифеев указывает, что вещи включают в себя «как результаты человеческого труда, так и предметы природы, используемые людьми в своем интересе»13.
Анализ данных признаков позволяет прийти к выводу о том, что ряд из них нельзя признать свойственными только и исключительно вещам как объектам гражданских прав. Так, например, наличие определенной ценности, потребительной стоимости, способность удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений и ряд других из числа перечисленных свойств, в равной степени присущи как вещам, так и иному имуществу, а некоторые из них - и вообще всем без исключения объектам гражданских прав.
Что касается роли человеческого труда в создании или присвоении вещи, то, представляется, что данный признак также является весьма ненадежным, поскольку, как было отмечено выше, к числу вещей могут быть отнесены как те объекты, которые действительно созданы человеком, так и те, которые имеют органическое происхождение.
Вместе с тем нельзя не заметить, что большинством авторов, исследовавших указанную проблематику, особо подчеркивается свойство материальности вещи. Именно данный признак является ключевым, опорным пунктом любого исследования вещи как объекта гражданских прав.
Следует отметить, что в римском праве материальность вещи не являлась ее необходимым признаком, поскольку римляне выделяли наравне с действительно материальными, осязаемыми вещами (res corporates), также вещи нематериальные (res incorporates)14.
Анализ норм действующего российского гражданского права также позволяет прийти к выводу, что вещи не всегда понимаются законодателем в «узком» смысле, исключительно как пространственно-ограниченные объекты. На данное обстоятельство обращает внимание, например, И. Гумаров, который отмечает, что «законом помимо вещей как предметов материального мира параллельно допускается и существование нематериальных «вещей» . В качестве примера им указывается на законодательное отнесение к вещам предприятия как имущественного комплекса, безналичных денег, бездокументарных ценных бумаг и других «нематериальных» явлений.
М.М. Валеев считает отмеченные примеры проявлением непоследовательности российского законодателя. Полагая, что вещь - это исключительно материальный объект, он предлагает на этом основании не рассматривать в качестве вещи предприятие и ряд других объектов, не являющихся физическими телами, поскольку речь в данном случае должна идти не о вещах, а об «ином имуществе» 16.
Следует отметить, что вещь как объект окружающего нас мира, т. е. в обыденном ее понимании, безусловно, всегда материальна. В силу этого данный неотъемлемый признак вещи (ее материальность), в отличие от других ее «случайных» свойств (гладко- сти/шероховатости и т. п.), не может быть признан безразличным, незначимым при создании законодателем правовой конструкции вещи. Поэтому соответствующее свойство должно быть либо закреплено законом (ввиду его необходимости для вышеназванной правовой конструкции), либо проигнорировано путем применения соответствующей фикции.
В пользу возможности применения последнего приема, на первый взгляд, однозначно свидетельствует тот факт, что история права знает конструкцию res incorporates (бестелесной вещи). Но такой аргумент, в действительности, не обладает достаточной убедительностью. Даже оставив в стороне тот факт, что данную юридическую конструкцию не восприняло законодательство большинства европейских стран, а в отечественной дореволюционной цивилистике она зачастую полу- 17 чала весьма неоднозначные оценки , следует вслед за Д.В. Мурзиным отметить, что конструкция бестелесной вещи «лишь указывает на определенный логарифм мышления, позволяющий праву учитывать новые веяния»18 и то, что в действующем законодательстве функции категории, объединяющей телесные и бестелесные вещи, выполняет понятие «имущество». Отсюда следует вывод, что res incorporates в римском значении данного термина не является одной из разновидностей вещей, в том смысле, который придается данной категории современным российским гражданским правом. Поэтому тот факт, что истории цивилистической науки известна конструкция res incorporates, не только не свидетельствует о возможности существования в соответствии с действующим гражданским правом «нематериальных» вещей, но скорее наоборот, подтверждает выводы тех ученых, которые считают, что вещи как объект материальный должны быть противопоставлены «иному имуществу» (или res incorporates), не обладающему отмеченным свойством.
Думается, что к вещам в гражданско-правовом смысле, действительно, следует относить только материальные объекты. Данный вывод может быть подтвержден следующим. Прежде всего, по нашему мнению, только «классическая» материальная вещь может быть «полноценным» объектом права собственности и других вещных прав. Данный вы вод является достаточно общепризнанным в „ 19
цивилистическои науке , хотя нельзя не отметить, что существует и достаточно убедительно аргументируется и противоположная точка зрения - о возможности установления права собственности на «нематериальные» объекты (иное, помимо вещей, имущество) -res incorporates20. Представляется, однако, что если даже признать возможность установления права собственности на нематериальные объекты, то такое право будет весьма отличаться от своей «классической» модели (права собственности на телесные вещи). Так, ни при каких условиях нельзя будет вести речь о владении res incorporates, а, следовательно, о передаче владения на такую «вещь», весьма в ограниченных пределах возможно будет использование традиционных вещно-правовых способов защиты - виндикационного и негаторного иска, и т. п. Неприменимыми к таким нематериальным объектам станут и нормы о большинстве способов приобретения права собственности (путем изготовления, находки, спецификации и др.), в силу того, что они «рассчитаны» только на материальные объекты. Нельзя не отметить, что это касается и «нетрадиционных» объектов гражданских прав, не являющихся материальными, но признанных законодателем вещами. Именно неприменимость к ним в полной мере названного правового режима порождает определенные сложности и противоречия при попытке регулировать складывающиеся по поводу таких объектов общественные отношения при помощи вещно-правовых норм.
Кроме того, следует согласиться с М.М. Валеевым, который считает, что у вещей «все своеобразие правового режима определяется исключительно природными свойствами»21. Действительно, нельзя не признать, что природные свойства не могут быть присущи субъективным гражданским правам, составляющим суть конструкции res incorporates.
Таким образом, следует прийти к выводу, что любая вещь по действующему гражданскому праву - это объект материальный. Однако непосредственное значение для исследуемой нами проблематики имеет ответ на другой вопрос: а верно ли обратное утверждение о том, что любой материальный объект может быть признан вещью? Дело в том, что никем из ученых, не рассматривающих земельный участок в качестве вещи, не отрицается присущее ему свойство материальности. Однако одновременно утверждается, что юридическая конструкция вещи в гражданском праве применима не к каждому материальному объекту, а только к объекту телесному (в узком смысле слова), т. е. обладающему пространственными, а не только поверхностными координатами22.
Ответ на вопрос о том, должна ли вещь в гражданском праве быть телесным объектом, имеющим массу и пространственные границы, далеко не столь очевиден, как ответ на вопрос о том, должна ли вещь быть материальным объектом. Действительно, например, вещно-правовые нормы в равной мере применимы как к телесным, так и «нетелесным», искусственно обособленным материальным объектам (жидкостям, земельным участкам и т. п.). Думается, однако, что гражданско-правовая доктрина все же не случайно акцентирует свойство телесности вещи. Понять причины этого феномена, как представляется, могут помочь идеи ученых-цивилистов об объекте субъективных прав вообще, и о вещи, в частности, как о предмете господства или 23 власти лица .
Так, например, Е.В. Васьковский прямо определял объект гражданского права как предмет власти, предоставленной отдельному лицу в его частной жизни24. Ю.С. Гамбаров отмечал, что «объектом права считают либо то, что подчинено господству, либо то, на что направлено это господство»25. Важное значение категории «власть», используемой применительно к вещам, подчеркивает и К.И. Скловский, указывая следующее: «Свобода действовать с вещью известным образом юридически опосредована; именно поэтому мы говорим о свободе - понятии юридическом. ...
Соответственно выявляется юридическая способность вещи попадать под власть, что позволяет, с одной стороны, провести качественную грань между юридическим понятием вещи и предметами (явлениями) материального мира и, с другой стороны, отграничить вещь как объект от лица» 26.
Действительно, поскольку право лица на вещь может быть представлено как мера власти в отношении этой вещи, то предел этой власти объективно зависит от свойств ее объ екта. Этот принципиальный момент отмечен в русской цивилистике Е.В. Васьковским, который указал, что для вещи важны только такие качества, «которые отражаются на праве, т. е. влияют на объем власти, предоставляемой над вещью частным лицам»27. При этом анализ материальных объектов с точки зрения их способности подчиняться господству позволяет прийти к выводу о том, что в наибольшей, максимальной степени таким свойством обладают именно телесные вещи. Все иные объекты, не являющиеся телесными, субъект не в состоянии полностью «подчинить» себе, и потому право здесь вынуждено в той или иной мере «приспосабливать» такие объекты, чтобы они подлежали правовому господству лица, вырабатывая ■ для этого всегда строго определенные юридические средства.
Эти юридические меры «овеществления» иных объектов различаются в зависимости от того, какое из свойств объекта препятствует его подчинению правовому господству лица. Так, если земельные участки по природе своей материальны, но не являются физическими телами, то стать объектом правового господства они смогут лишь в том случае, если свойство пространственной ограниченности (пусть и не в полной мере) будет сообщено им искусственно, путем установления и закрепления их границ. А потому процедуры описания и юридического признания границ земельных участков нуждаются в специальной нормативной регламентации. С другой стороны, если речь идет, например, об электрической энергии, то она не подчиняется власти человека уже в силу своей нематериальности, и право в данном случае предпринимает усилия по созданию средств ее учета и т. п.
Как уже отмечалось, свойство выступать объектом правовой власти лица ученые-цивилисты признавали не только за вещами, но и за иными объектами права. Но здесь степень господства лица над объектом (имущественным правом и еще в большей степени -работой, услугой) всегда меньше, чем над любой материальной вещью. Это позволяет прийти к интересному выводу, что в зависимости от указанного свойства (способности подчиняться правовой власти субъекта) происходит дифференциация объектов гражданских прав в целом. Так, если вещь является физическим телом (степень правового гос- подства - максимальна) - это классическая res corporates, на которую без изъятий распространяется «вещный» правовой режим. Если вещь является материальной, но не телесной (как, например, земельные участки, участки недр), «вещный режим» может быть распространен на указанный объект, а исключения из него специально «прописываются» в законе. Еще в меньшей степени подлежат правовому господству объекты нематериальные, не связанные, однако, со сферой иной автономной личности (отдельные виды энергии), поэтому распространение на них «вещного режима» имеет весьма ограниченные пределы, а количество исключений из него свидетельствует о том, что это скорее некий переходный феномен между вещами и иным имуществом. Имущественные права в их классическом понимании определяются как права на чужие действия, то есть затрагивают сферу иного субъекта гражданского права, который признается самостоятельной, автономной личностью. Именно этим обстоятельством, как представляется, обусловлен тот факт, что здесь количественные изменения переходят в качественные - имущественное право рассматривается уже в рамках другой юридической конструкции - не тождественной вещи. Имущественное право может приравниваться к вещи лишь в строго определенных пределах - как объект распоряжения (но не пользования или владения), и в данном случае понятие вещи распространяется на имущественное право путем применения фикции, но речь идет уже о res incorporates.
Указанную классификацию можно продолжать вплоть до объектов, в максимальной степени затрагивающих самую личность другого самостоятельного автономного субъекта и потому не подлежащих правовому господству управомоченного лица даже в минимальном отношении - нематериальных благ. Но для целей настоящего исследования уже сформирована достаточная база для главного вывода - земельные участки не есть классические телесные вещи. Но их сходство с вещами столь велико, что нет достаточных оснований для установления для них правового режима, иного нежели у вещей. Те особенности, которые вытекают из их неабсолютной способности подчиниться сфере правовой власти лица, вполне могут быть «прописаны» в рамках правового режима одной из разновидностей вещей. Отнесение их в науке, или, что еще опаснее, в действующем законодательстве, к категории «иного имущества», приведет к необходимости отдельно указывать, в какой мере нормы о вещах распространяются на земельные участки. Поскольку таких норм -абсолютное большинство - будет нарушен принцип законодательной экономии, что вряд ли послужит эффективности правового регулирования соответствующих отношений.
Таким образом, юридические характеристики земельных участков с учетом изложенного следует разделить на две группы:
-
1) признаки, которые присущи только данным объектам и не свойственны «классическим» телесным вещам (собственные свойства земельных участков);
-
2) признаки, которые являются общими для земельных участков и иных вещей (делимость (неделимость), индивидуальная определенность и пр.).
Что касается первой группы признаков (собственных свойств земельных участков), то они, как уже отмечалось, предопределены тем, в каком именно отношении земельные участки не вполне подлежат правовому господству (власти) управомоченного субъекта. Как представляется, в данном аспекте внимания заслуживают следующие моменты:
-
- прежде всего, являясь частью природы, земельные участки не могут возникать и прекращаться по воле человека (за редкими исключениями, такими, как отмеченная ранее возможность создания искусственных островов или известное европейскому законодательству поглощение участков земли прибрежными водами). При этом в отличие от иных «несоздаваемых» объектов органического происхождения (животных, минералов и пр.), вовлечение земельных участков в оборот требует принятия дополнительных мер не только фактического (установление границ в натуре и пр.), но и юридического характера.
-
- во-вторых, земельные участки обладают свойством неперемещаемости, которое также существенно ограничивает объем правовой власти субъекта.
Первое отмеченное обстоятельство привело к тому, что действующее законодательство содержит достаточно подробное описание способов «создания» и «прекращения»
земельных участков, как объектов гражданских прав. Что же касается второй отмеченной особенности, то она нашла свое полное и последовательное воплощение в юридической конструкции недвижимого имущества, объединившей земельные участки с иными непе-ремещаемыми объектами.
Анализ правовых норм, регламентирующих правовой режим земельных участков, позволяет обнаружить такие особенности «возникновения» их как объектов прав, которые не свойственны иным (телесным - в узком смысле этого термина) вещам. Так, телесные вещи как объекты гражданских прав появляются в результате их изготовления или создания (п. 1 ст. 218, ст. 219 ГК РФ), переработки (ст. 220 ГК РФ), перевода из «естественного», «неприсвоенного» состояния в правовое (ст. 221 ГК РФ).
Если такие понятия как переработка и обращение в собственность общедоступных для сбора вещей очевидно неприменимы к процессу «создания» земельных участков, то в отношении возможности распространения на процесс формирования и последующего присвоения земельных участков третьего упомянутого способа первоначального приобретения права собственности на телесные вещи (создания нового объекта) необходим специальный анализ.
В литературе названы следующие отличительные признаки приобретения права собственности на вновь изготавливаемую (создаваемую) вещь. Прежде всего, право собственности возникает на вещь, которой раньше не было (1); собственником становится тот, кто изготовил или создал вещь с соблюдением действующих правовых норм (2); для себя (3); если же вновь создаваемая вещь является недвижимой и подлежит государственной регистрации, право собственности на нее возникает с момента такой регистрации (4)28. На первый взгляд, выделение земельного участка из массы земельного массива (земельного фонда), который, как было отмечено выше, качествами объекта гражданских прав не обладает, действительно, может быть охарактеризовано как создание нового объекта гражданских прав, которого до сих пор не существовало. Однако, представляется, что такое расширительное толкование термина «создание новой вещи» не входило в намерение законо дателя. Представляется, что под «созданием новой вещи» должны пониматься такие действия лица, результатом которых становится появление предмета материального мира, которого ранее не существовало в принципе, а не только в качестве объекта гражданских прав. А, следовательно, думается, что понятие создания новой вещи не применимо к земельным участкам. Термины «изготовление» и «создание» вещи в том смысле, в котором данные термины употреблены в ст. 218, 219 ГК РФ, означают появление качественно (!) нового объекта в результате приложения человеческих усилий. То есть этими терминами может быть охвачен только процесс создания так называемых рукотворных объектов гражданских прав.
При «создании» земельного участка как объекта гражданских прав качественной переработки материала не происходит, земельный участок появляется не в результате создания, а в результате его обособления из земель, принадлежащих другим субъектам гражданского права. Здесь особую роль приобретают такие процедуры, как межевание и кадастровый учет.
На это обстоятельство обращает внимание М.Г. Пискунова, отмечая, что «земельные участки относятся к особому виду недвижимого имущества. Земля является несоздавае-мым и непотребляемым природным ресурсом, из которого можно образовывать объекты гражданских прав - участки. Невозможно приобрести право на земельный участок первичным способом - путем создания, как это предусмотрено п. 1 ст. 218 ГК РФ для искусственных объектов недвижимости - зданий и сооружений. Первоначально земельный участок можно только выделить на местности, сформировать из государственных или муниципальных земель и предоставить на определенном праве (ст. 30 ЗК РФ). В дальнейшем земельные участки могут формироваться в результате разделения собственником одного участка на несколько участков, выделения из участка другого или слияния граничащих 29 друг с другом участков» .
Определение государственного кадастрового учета земельных участков и их межевания содержит ст. 1 Федерального закона «О государственном земельном кадастре».
Согласно указанной норме, государст- венный кадастровый учет земельных участков выступает как описание и индивидуализация земельных участков в Едином государственном реестре земель, в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового номера. Межевание же земельного участка определено законом как мероприятия по определению местоположения и границ земельного участка на местности.
Следует отметить, что формирование земельных участков происходит в ходе их межевания. Межевание характеризуется в литературе как «землеустроительное действие»30. В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О землеустройстве» процедура межевания охватывается понятием так называемого территориального землеустройства. Под территориальным землеустройством в ст. 1 Федерального закона «О землеустройстве» понимаются мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности. При этом к объектам землеустройства названной нормой закона отнесены, в частности, земельные участки.
На необходимость осуществления процедуры межевания указывают и некоторые подзаконные нормативные акты. Так, например, Положение о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 105 от 02 февраля 1996 г.31 устанавливает, что межеванию (под которым понимается установление границ землепользования) подлежат как застроенные, так и подлежащие застройке территории в соответствии с генеральными планами и проектами планировки и застройки городов и других поселений, иными документами территориального развития.
Конкретные требования к межеванию земельных участков установлены различными подзаконными, в частности, ведомственными 32 нормативными актами .
Значение кадастрового учета состоит в юридическом закреплении уже сформированных земельных участков. На это указывает п. 1 ст. 7 Федерального закона «О государственном земельном кадастре», согласно которому государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и разрешенного использования земельных участков. Данный вывод подтверждается и п. 2 ст. 19 Федерального закона «О государственном земельном кадастре», в соответствии с которым для проведения государственного кадастрового учета в органы, осуществляющие деятельность по ведению государственного земельного кадастра, должны быть предоставлены документы о межевании.
Следует, однако, отметить, что согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона «О государственном земельном кадастре» моментом возникновения или моментом прекращения существования земельного участка как объекта государственного кадастрового учета в соответствующих границах является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр земель. То есть до момента внесения такой записи в реестр, но после завершения процедуры межевания, в ходе которой устанавливаются фактические границы земельного участка, можно говорить об «условном» существовании земельного участка. Т. е. он уже индивидуализирован, но такой индивидуализации еще не придано юридического значения. Такой «земельный участок» существует только для целей процедуры кадастрового учета, но не для совершения каких-либо юридически значимых действий. Следует согласиться с М.Г. Пискуновой в том, что «совершение сделок, приобретение прав и их государственная регистрация возможны только после кадастрового учета участка, независимо от способа его формирования - предоставления, разделения, выделения, 33 слияния и пр.» .
Определенный научный интерес представляет вопрос о том, каково юридическое значение процедур межевания и кадастрового учета земельных участков. Думается, что указанные действия не имеют значения юридических фактов, непосредственно порождающих субъективное право лица на соответствующий земельный участок. Такое право может возникнуть лишь на основании юридического 34
состава , одним из элементов которого, наряду с процедурами межевания и кадастрового учета, будет являться государственная регистрация данного права. Вместе с тем в некоторых ситуациях межевание и кадастровый учет земельных участков все же могут приобретать значение самостоятельных юридических фактов. Например, кадастровый учет земельных участков, образованных в результате разделения первоначального земельного участка, будет не только означать его «юридическую гибель», но и влечь прекращение правоотношений, существовавших в отношении такого участка.
Еще одно естественное физическое свойство земельных участков, непосредственно отражающееся на объеме правовой власти субъекта над таким участком и не позволяющее без оговорок распространить на него юридическую конструкцию телесной вещи, заключается в практически полной «неуничтожаемое-™» земельных участков. Данное свойство предопределяет неприменимость к земельным участкам тех норм о телесных вещах, которые «приводятся в действие» таким юридическим фактом, как гибель или уничтожение имущества, например, норм о прекращении права собственности на вещь вследствие гибели или уничтожения имущества (п. 1 ст. 235 ГК РФ), норм о прекращении обязательства невозможностью исполнения вследствие гибели индивидуальноопределенной вещи (ст. 416 ГК РФ) и др.
Следует отметить, что исключения из данного правила все же существуют. Так, в качестве «юридической гибели» земельных участков должно рассматриваться их затопление. Хотя земельный участок как часть земной поверхности продолжает существовать и в этом случае (просто речь идет о поверхности, покрытой водой), изменение свойств первоначального объекта здесь столь значительно, что такое изменение приводит к прекращению юридического бытия земельного участка. Представляется допустимой аналогия с разрушением телесной вещи, в результате которого сохранившиеся составные части не могут быть признаны тождественными «погибшей» вещи.
Особого внимания заслуживает анализ правовых признаков земельного участка, обусловленных таким его физическим свойством, как неперемещаемость. Думается, что неспособность того или иного объекта материального мира к перемещению в пространстве самым непосредственным образом отражается на объеме правовой власти, правового господства лица над таким объектом, что требует закрепления в законе соответствующих специальных правил. Как представляется, такие нормы, устанавливающие правовой режим не только земельного участка, но и иных системно связанных с ним объектов, образуют правовую конструкцию недвижимого имущества, правовой режим которого весьма значительным образом отличается от правового режима «классических» телесных вещей.
Помимо изложенных особенностей, на наш взгляд, вполне допустимо рассматривать земельные участки как вещи и использовать для характеристики данных объектов традиционные характеристики вещей. Так, земельный участок выступает в качестве индивидуально-определенной, непотребляемой и делимой (или неделимой) вещи.
-
1 См., например: Болтанова Е.С. Понятие и правовой режим недвижимости // Журнал российского права. 1999. №5-6. С. 82.
-
2 Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут. С. 57.
-
3 Степанов С.А. Указ. соч. С. 63
-
4 См., например: Кавелин К.Д. Избранные произведения по гражданскому праву М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 203.; Синайский В.И. Русское гражданское право. (Классика российской цивилистики) М.: Статут, 2002. С. 126.
-
5 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. (Классика российской цивилистики) М.: Статут, 2003. С. 116.
-
6 См., например: Гражданское право: Учебник. Ч. I 3-е изд. /Под ред. АЛ. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. С. 205.; Гражданское право: В 2-х т. Т. I: Учебник. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Издательство БЕК, 1998. С. 300; Гражданское право. Часть первая: Учебник. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М.: Юрист, 1997. С. 114 и др.
-
7 Гражданское право: В 2-х т. Т. I: Учебник. / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 300.
-
8 Гражданское право: Учебник. Ч. I: 3-е изд. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 205.
-
9 Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая. / Под общ. Ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 145.
-
10 Там же.
-
11 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 182.
-
12 Гражданское право: В 2-х т. Т. I: Учебник. / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 301.
-
13 Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая. / Под общ.ред. Т.Н. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. С. 145.
-
14 См., например: Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 324-325.
-
15 Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйство и право. 2000. № 3. С. 80.
™ См.: Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2003. С. 41.
-
17 Об этом см. подробнее: Мурзин Д.В. Бестелесные вещи // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3. М.: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2004.
-
18 Мурзин Д.В. указ. соч. С. 325.
-
19 См., например: Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1998. С. 231.
-
20 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 23 5.; Валеев М.М. Указ. соч. С. 82-93.
-
21 Валеев М.М. Указ. соч. С. 161.
-
22 См., например: Степанов С.А. Указ. соч. С. 57.
-
23 Следует сразу оговориться, что понимание вещи как предмета господства (власти) определенного лица не означает в данном контексте признания возможности существования отношения между лицом и вещью. Речь идет о том, что объективные свойства вещей не могут не учитываться при установлении субъективных прав на них. Примечательно, что последовательный сторонник «поведенческой» концепции объекта гражданских прав О.С. Иоффе отмечает, что «вещи ... предопределяют известную форму поведения, которая при прочих условиях объективно может и должна получить законодательное закрепление. Можно поэтому говорить
о гражданско-правовом значении вещей и их свойств...» (См.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. // Избранные труды по гражданскому праву М.: Статут, 2000. С.597).
-
24 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 115.
-
25 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Издательство «Зерцало», 2003. С. 583.
-
26 Скловский К.И. Рецензия на книгу В.А. Лапача «Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика» // Хозяйство и право. 2004. Ns 6. С. 94.
-
27 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 116.
-
28 См., например: Гражданское право. Учебник. Часть I 3-е изд. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 352.
-
29 Пискунова М.Г. Земельный кодекс Российской Федерации и новые правила оформления сделок с недвижимостью // Государственная регистрация прав на недвижимость: проблемы регистрационного права / Отв. ред. Кирсанов А.Р. М.: Ось-89, 2003 С. 312.
-
30 Комментарий к Закону о государственном земельном кадастре / Под. ред. Галиновской Е.А. М.: ЗАО «Юсти-цинформ», 2004. С. 7.
-
31 Собр. законод. РФ. 1996. № 6. Ст. 592.
-
32 См., например: Положение об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1223 // СЗ РФ. 1997. № 40. Ст. 4592 (действует в части не противоречащей действующему законодательству); Инструкция по межеванию земель, утв. Роскомземом 08 апреля 1996 г. // СПС «Консультант-Плюс»; Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 02. 10. 2002 г. № П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет» // Российская газета. 2002. 27 нояб.
-
33 Пискунова М.Г. Указ. соч. С. 312-313.
-
34 О понятии юридического состава см.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 53-54
Список литературы К вопросу о допустимости признания земельного участка вещью
- Болтанова Е.С. Понятие и правовой режим недвижимости//Журнал российского права. 1999. №5-6. С. 82.
- Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут. С. 57.
- Степанов С.А. Указ. соч. С. 63
- Кавелин К.Д. Избранные произведения по гражданскому праву М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 203.;
- Синайский В.И. Русское гражданское право. (Классика российской цивилистики) М.: Статут, 2002. С. 126.
- Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. (Классика российской цивилистики) М.: Статут, 2003. С. 116.
- Гражданское право: Учебник. Ч. I. 3-е изд./Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. С. 205.;
- Гражданское право: В 2-х т. Т. I: Учебник./Отв.ред. Е.А. Суханов. М.: Издательство БЕК, 1998. С. 300;
- Гражданское право. Часть первая: Учебник./Под ред.А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М.: Юрист, 1997. С. 114 и др.
- Гражданское право: В 2-х т. Т. I: Учебник./Отв. ред.Е.А. Суханов. С. 300.
- Гражданское право: Учебник. Ч. I: 3-е изд./Под ред.А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 205.
- Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая./Под общ. Ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 145.
- Там же.
- Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 182.
- Гражданское право: В 2-х т. Т. I: Учебник./Отв. ред.Е.А. Суханов. С. 301
- Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая./Под общ.ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало,В.А. Плетнева. С. 145.
- Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 324-325.
- Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России//Хозяйство и право. 2000. № 3. С. 80.
- Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений: Дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2003. С. 41
- Мурзин Д.В. Бестелесные вещи//Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3. М.: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2004.
- Мурзин Д.В. указ. соч. С. 325.
- Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе//Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова/Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1998. С. 231.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 235.;
- Валеев М.М. Указ. соч. С. 82-93.
- Валеев М.М. Указ. соч. С. 161.
- Степанов С.А. Указ. соч. С. 57.
- Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву.//Избранные труды по гражданскому праву М.: Статут, 2000. С.597).
- Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 115.
- Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М.: Издательство «Зерцало», 2003. С. 583.
- Скловский К.И. Рецензия на книгу В.А. Лапача «Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика»//Хозяйство и право. 2004. № 6. С. 94.
- Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 116.
- Гражданское право. Учебник. Часть I 3-е изд./Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 352.
- Пискунова М.Г. Земельный кодекс Российской Федерации и новые правила оформления сделок с недвижимостью//Государственная регистрация прав на недвижимость: проблемы регистрационного права/Отв. ред.Кирсанов А.Р. М.: Ось-89, 2003 С. 312.
- Комментарий к Закону о государственном земельном кадастре/Под. ред. Галиновской Е.А. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2004. С. 7.
- Собр. законод. РФ. 1996. № 6. Ст. 592.
- Положение об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1223//СЗ РФ. 1997. № 40. Ст. 4592
- Инструкция по межеванию земель, утв. Роскомземом 08 апреля 1996 г.//СПС «Консультант-Плюс»;
- Приказ Федеральной службы земельного кадастра России от 02. 10. 2002 г. № П/327 «Об утверждении требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет»//Российская газета. 2002. 27 нояб.
- Пискунова М.Г. Указ. соч. С. 312-313.
- Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 53-54