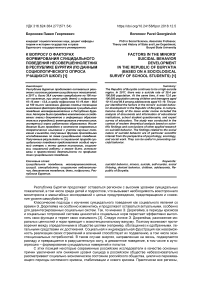К вопросу о факторах формирования суицидального поведения несовершеннолетних в Республике Бурятия (по данным социологического опроса учащихся школ)
Автор: Бороноев Павел Георгиевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2018 года.
Бесплатный доступ
Республика Бурятия продолжает оставаться регионом с высоким уровнем суицидальных показателей: в 2017 г. было 39,4 случаев самоубийств на 100 тысяч населения, при этом среди детей и подростков 10-15 лет - 12,6, а среди подростков 15-19 лет - 86,6 на 100 тысяч населения. Данная статья посвящена выявлению факторов формирования суицидального поведения несовершеннолетних в Республике Бурятия. Автором было проведено комплексное исследование: анализ документов и информации образовательных учреждений, анкетирование учеников школ, экспертный опрос работников образования. Исследование было проведено в контексте современных теоретических изысканий с учетом научных положений и выводов, полученных другими прикладными исследованиями по теме суицидального поведения. Полученные результаты о социальной природе суицидального поведения представляют особый научный интерес с точки зрения психологии, социологии, социальной работы и могут быть использованы в практической деятельности по профилактике суицидального поведения.
Суицидальное поведение, несовершеннолетние, суицид, самоубийство, социальное неблагополучие, девиантное поведение, дети, подростки, республика бурятия
Короткий адрес: https://sciup.org/149132719
IDR: 149132719 | УДК: 316.624:364.277(571.54) | DOI: 10.24158/tipor.2018.12.5
Текст научной статьи К вопросу о факторах формирования суицидального поведения несовершеннолетних в Республике Бурятия (по данным социологического опроса учащихся школ)
Республика Бурятия продолжает оставаться регионом с высоким уровнем суицидальных показателей, в том числе среди детей и подростков, что вызывает необходимость всестороннего мониторинга и масштабных исследований с целью предупреждения, предотвращения и снижения уровня самоубийств [2].
Классические подходы к изучению суицидального поведения как социального явления со времен Э. Дюркгейма не особенно изменились и продолжают оставаться актуальными, особенно для дезинтегрированных социальных систем. Так, по мнению Э. Дюркгейма, в периоды кризисов и социальных потрясений система ценностей и социальных норм перестает эффективно выполнять свои функции и теряет свою значимость [3]. Следуя логике Э. Дюркгейма, разложение моральных ценностей и норм приводит к экзистенциональному вакууму. Поэтому возникают противоречия между определенными в обществе целями (например, обогащение) и одобренными, легальными средствами их достижения. Социальная и индивидуальная фрустрация как невозможность реализации своих стремлений и влечений способствует их подавлению, в том числе экзи-стенциональных потребностей. В таком случае энергия, направленная на жизнь, подвергается распаду и превращается в разрушительную силу, в девиантное поведение, в том числе в аутоагрессию – формирование суицидальных намерений и попыток.
С этих позиций некоторые современные российские исследователи в качестве основных причин увеличения или снижения уровня суицида в российском обществе небезосновательно рассматривают социально-экономическое состояние российского общества, циклично переживающего периоды системного кризиса, стабилизации и нового кризиса. Практически все регионы, занимающие первые позиции в Российской Федерации по уровню суицида, такие как Республика Бурятия, относятся к депрессивным регионам. Согласно статистическим данным 2017 г., в Республике Бурятия 182,1 тысячи человек (18,5 %) имеют доход ниже прожиточного уровня [4]. Бижу Янг (Bijou Yang) в своем исследовании выяснила, что «однопроцентный рост доходов на душу населения приводит к уменьшению числа молодежных самоубийств на 0,11 %. Усиление же бедности, снижающее социальную и экономическую интеграцию, негативно влияет на суицидальную ситуацию в обществе» [5]. По мнению С.В. Кондричина, «крайне редкие и немногочисленные российские исследования также свидетельствуют о существовании обратной, хотя и не очень выраженной корреляции между этими переменными: чем беднее регион, тем чаще там совершаются самоубийства» [6, с. 113]. Это особенно заметно проявляется в сельских районах, где наблюдаются высокий уровень безработицы и низкий уровень доходов населения. Как правило, во многих странах традиционно более высокий уровень суицида в городах, однако в России уровень самоубийств среди сельского населения продолжает оставаться существенно выше. Например, в 2017 г. в Республике Бурятия показатели суицида среди сельского населения составили 54 случая против 29,6 в городской среде на 100 тысяч населения [7].
В сентябре – октябре 2018 г. нами был проведен социологический опрос учеников 10 сельских и 2 городских школ в 4 районах Республики Бурятия. В опросе приняли участие 652 школьника в возрасте от 12 до 17 лет. Выборка формировалась методом квотного отбора и в целом репрезентирует социально-демографическую группу населения Республики Бурятия – учащихся школ.
К сожалению, субъективная оценка экономического положения семьи самими учащимися не вызывает доверия, что является типичной погрешностью многих эмпирических исследований, в которых респонденты самостоятельно индексируют свои доходы. Статистика опроса показала явное стремление к преувеличению благосостояния семьи: 49,1 % учеников выбрали позицию с высоким уровнем доходов – «ни в чем себе не отказывают». Здесь также следует учитывать, что в силу своего возраста несовершеннолетние не всегда в состоянии адекватно оценивать социальноэкономическое положение своей семьи. Более объективной представляется дифференциация школьников учителями, указавшими, что к числу обеспеченных детей можно отнести только 12,5 %. Далее, 0,9 % из школьников указали, что денег не хватает даже на продукты, 6,1 – денег хватает только на продукты, 42,6 – денег хватает, но не на покупку дорогих бытовых приборов. Эти данные подтверждаются информацией из социального паспорта школ. Например, в Татауровской средней общеобразовательной школе 24,3 % родителей учеников безработные, 25,8 % детей из неполных, 30,3 – из малообеспеченных, 3,7 – из неблагополучных семей. Такая ситуация, судя по социальным паспортам школ, характерна для ряда районов Республики, особенно в сельских поселениях.
Мы полагаем, что будет недостаточно корректно определить и отнести к числу наиболее распространенных причин самоубийства среди несовершеннолетних показатели социально-экономического положения семьи, поскольку такая статистика отсутствует. Однако Р. Коски, в частности, приходит к выводу, что «подростки из бедных семей в большей мере подвержены риску самоубийств, чем их материально обеспеченные сверстники» [8]. Не секрет, что в некоторых случаях дети из малообеспеченных и бедных семей становятся объектами социальной изоляции, насмешек и унижений, что при определенных условиях и складе характера ребенка может стать катализатором суицидального поведения. В нашем опросе 12,6 % учащихся указали, что у них есть проблемы в отношениях с одноклассниками, 7,2 – проблемные отношения с конкретным человеком в классе.
Системное реформирование российского общества привело к явному противоречию между провозглашаемой западной моделью утилитарного и индивидуалистического общества и сложившейся российской ментальностью, основанной на традиционных ценностях коллективного мировоззрения и особой духовности русского человека. Сегодня неясно, какие цели или ценности, которые являются основательными и надежными, кроме религиозных, мы предлагаем молодому поколению постсоветского периода. Вероятно, поэтому наши респонденты отметили, что не имеют жизненных целей (8,6 %), 6,6 имеют «смутные представления» о планах на жизнь.
Возможно, для поколения детей и подростков, выросших в новой России, не совсем понятны настроения ностальгии по советской эпохе, которые заметно выражены не только у старшего поколения и взрослого неформального окружения, но и в СМИ. Ценности советского периода совершенно абстрактны для детей и подростков. В некоторых ситуациях эти межпоколенческие разногласия и конфликты вызывают как отторжение самих подростков, так и раздражение или непринятие родителей. Так, по данным нашего опроса, крайне редко находят понимание со стороны родителей, друзей и близких людей 8,4 %, иногда – 33,0. Эмпирические исследования показывают, что более чем 40 % суицидальных попыток и парасуицидов [9] несовершеннолетних вызваны семейными проблемами [10]. В проведенном опросе 7,8 % школьников подтвердили наличие семейных неурядиц (ругани, скандалов, ссор). Более того, для 1,4 % учащихся степень семейных проблем, по-видимому, имеет крайне острый характер, что становится «невыносимо жить». Конечно, не всегда дети, выросшие в неблагополучных семьях, демонстрируют суици- дальные настроения. Однако именно дети, не получившие в должной мере любви и тепла в семье, как правило, имеют поведенческие проблемы, низкую самооценку и склонны к созданию собственного негативного образа, что в конечном итоге формирует «путаную» идентичность и аутоагрессию. Так, 7,5 % учащихся ответили, что злятся на себя или на других постоянно, а 25 – периодически. Все это протекает на фоне становления личности, которое объективно именуется психологами как период «бурь и мятежей» [11, с. 5–7]. Таким образом, неудачное сочетание условий семейного неблагополучия, сопровождаемое объективными факторами социального становления несовершеннолетних, потенциально увеличивает риски суицидального поведения, способные при определенном стечении обстоятельств привести к критическому выбору.
Ряд исследователей в области медицины и психиатрии склонны полагать, что частота суицидальной смертности в регионах Российской Федерации с высокой суицидальной активностью, в том числе в Республике Бурятия, скорее всего, связана с сочетанием этнических, культурно-исторических и религиозных факторов. В частности, среди этнических групп бурятов и калмыков, исповедующих буддизм или придерживающихся шаманистских воззрений; к их числу также относятся тувинцы [12]. Эта точка зрения подкрепляется данными по Республике Тыва, в которой преобладает коренное население – 82 %, а доля русского населения составляет 16,3 %. Здесь частота суицидальной активности в 2012 г. составляла 61 случай на 100 тысяч населения [13].
Эта гипотеза поддерживается и активно продвигается исследователями регионов с коренным населением Сибири и Севера Российской Федерации. Достаточно трудно дискутировать с этими положениями, поскольку мы не располагаем данными статистики, которые показывают соотношение уровня суицидальной смертности по этническому признаку, также как не имеем серьезных эмпирических исследований в области суицидального поведения в регионах с высокой активностью, способных обосновать эти гипотезы или доказать обратное. Что касается экстраполяции данных положений применительно к обоснованию высокого уровня самоубийств в Республике Бурятия, то эти идеи вызывают определенные размышления, связанные в первую очередь с соотношением русского и бурятского населения, которое составляет 66 % русских и 30 % бурят. Или, например, постулируемые в этих исследованиях толерантное отношение к вопросам смерти и вера в возможности дальнейшего перерождения – реинкарнации как особенности буддийской ментальности не получили своего подтверждения. В нашем опросе вариант ответа «смерть – это возможность реинкарнации» выбрали 24 % русских учеников и 18,1 % бурят. При этом канонические православные представления о смерти «как рае или аде» в нашем опросе наряду с 33 % русских респондентов выбрали 31,9 % бурят. Безусловно, данные показатели не являются строго валидными в пользу того или иного положения, поскольку применительно к показателям суицида требуют более аргументированного обоснования, доказывающего устойчивость и укорененность этих положений как маркеров для православного или буддийского этнокультурного разделения и соответствующего отношения к возможности самоубийства. Здесь хотелось бы отметить, что, по мнению религиоведов, длительное межкультурное взаимодействие русских и бурят на территории Республики способствовало формированию особой формы синкретизма – сочетания и применения православных, буддийских и шаманских практик в повседневной жизнедеятельности мирян, особенно в вопросах медицинской помощи и в решении различных утилитарных проблем безотносительно к этнической принадлежности [14]. Об этом также свидетельствуют данные социологических исследований по изучению отношения современной молодежи Бурятии к свободе совести. В публикациях отмечается, что христианская молодежь посещает как церковь, так и буддийские дацаны со священными местами [15]. По нашему мнению, данная гипотеза в разрезе клинических медицинских и психологических наук, предметом которых является изучение индивидуальных феноменов, требует всестороннего анализа, в том числе методами социологии, поскольку речь идет о массовом, следовательно, социальном явлении типического характера, что входит в сферу исследования социальных наук.
В последние годы категория «счастье», рассматриваемая в основном в дискурсе философско-этического исследования, приобретает популярность в области изучения отечественных социальнопсихологических наук как социокультурный феномен [16]. Вероятно, это связано с тем, что эта категория становится актуальной в контексте исследований социального благополучия общества и человека, хотя в эмпирическом плане понятие «счастья» – трудноопределимое явление в силу многообразия представлений о нем. Возможно, поэтому данное понятие в прикладных исследованиях рассматривается скорее как критерий самоопределения и субъективного самоощущения респондентов.
В данном контексте интересны социологические исследования, проведенные Фондом общественного мнения в 2011 г. Так, несчастными ощущают себя 19 % из числа опрошенных. Показательно, что среди 44 регионов Российской Федерации единственным регионом с самым высоким уровнем несчастных (каждый четвертый – 25 %) оказался Сибирский федеральный округ. Этот опрос также показывает, что очень бедные люди действительно более несчастны, так же как и чаще думают о смерти самые бедные люди [17, с. 17–23]. Следовательно, мы можем допустить, что состояние несчастья по самоощущению может предшествовать суицидальным наме- рениям. Эмпирически доказано, что риски суицида значительно выше среди несчастных – одиноких, разведенных, людей, переживающих смерть близких, неудачную любовь, тяжелую или неизлечимую болезнь, так же как и крайняя бедность, унижающая достоинство невостребованных, нереализованных людей, в силу объективных причин оказавшихся на обочине жизни. Так, например, процент незанятости трудоспособного населения в некоторых сельских поселениях Республики доходит до максимального уровня и при этом не поддается официальной статистике, поскольку не имеет смысла становиться на учет с пособием в 1000 р. в месяц, если центры занятости находятся в районном поселении. Конечно, это не касается непосредственно несовершеннолетних, однако дети и подростки в таких семьях также тяжело переживают несостоятельность взрослых членов и перенимают настроения безысходности и несчастливого удела. Так, согласно нашему опросу, почти каждый четвертый респондент имеет негативное представление о мире «как источнике проблем, зла, лжи и опасностей, в котором нет ничего хорошего» (24,1 %). Возможно, поэтому «жизнь» для 27,9 % детей и подростков – просто «промежуток от рождения и смерти», для 3,7 – «печаль и страдания».
Непосредственно суицидальные настроения демонстрируют 2,9 % учащихся, ответивших «вообще не хочу жить», 3,1 не имеют никакой радости в жизни. О близком к депрессивному состоянии говорят 10,3 % школьников, которых «часто посещают мрачные мысли» и которые «часто имеют плохое настроение», 8,7 % почти всегда чувствуют себя одинокими. При этом практически каждый четвертый школьник не размышляет о смысле жизни (24,4 % – «редко», а 4,9 – «никогда»). Конечно, сложно однозначно интерпретировать эти ответы как потенциально суицидальные настроения и возможные намерения. Известно, что в любом опросе есть погрешности, особенно если речь идет о сложных вопросах метафизического характера: как бы корректно ни была сформулирована анкета, очень важную роль играет субъективный фактор. Многое зависит даже от того, в каком эмоциональном состоянии находился респондент, т. е. от настроения, в котором человек воспринимал поставленные вопросы, зависел выбор вариантов ответа.
Таким образом, полученные в ходе опроса данные в той или иной степени отражают современное состояние психологического и социального неблагополучия определенной части детей и подростков, которые в зависимости от неблагоприятного стечения обстоятельств могут вызывать зачастую и риски суицидальных настроений, спонтанные намерения и попытки.
В целом анализ документов и информации образовательных учреждений, результатов анкетирования учеников школ, экспертного опроса работников образования показывают, что в числе наиболее распространенных причин стабильно высокого уровня суицидального поведения среди несовершеннолетних и населения в целом в Республике Бурятия не только факторы социальноэкономического характера, такие как занятость и уровень доходов, но и социокультурные.
На суицидальное поведение оказывают влияние процессы дезинтеграции и низкий уровень социальной адаптации, особенно в сельских районах Республики. В традиционно аграрном регионе, каким является Бурятия, продолжают доминировать ценности патернализма, психология общинной солидарности и коллективного начала, которые подвергаются трансформации в результате рыночных реформ. К сожалению, судя по обзору публикаций, эта группа причинных факторов как системное социальное явление не получила широкого распространения в исследованиях суицидального поведения в первую очередь методами социологического анализа. Подобные масштабные прикладные исследования с целью минимизации факторов, негативно влияющих на такое крайне опасное явление, как суицид, могут быть инициированы и организованы только на институциональном уровне, поскольку требуют как серьезного теоретического осмысления, так и немалых вложений в эмпирические исследования.
Ссылки и примечания:
Список литературы К вопросу о факторах формирования суицидального поведения несовершеннолетних в Республике Бурятия (по данным социологического опроса учащихся школ)
- Отчет о научно-исследовательской работе «Региональный аспект исследования суицидов среди подростков» в рамках государственного контракта на выполнение НИС для государственных нужд Москвы № 26 от 23 июля 2012 г. [Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам человека в городе Москве. URL: http://ombudsman.mos.ru/download.php?model=document
- Социально-экономическое положение Республики Бурятия. Январь - февраль 2018 г. [электронный ресурс] : комплексный доклад № 01-01-01 // Бурятстат. URL: http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/5bff5a8044eeca05889eaede4cdebdf4/01-01-01_2018-02.pdf (дата обращения: 11.12.2018).
- Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / пер. с фр. с сокр. А.Н. Ильинского ; под ред. В.А. Базарова. М., 1994. 339 с.
- Уровень бедности населения в Республике Бурятия [Электронный ресурс] // Бурятстат. URL: http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/e868e600472b319f96b6be87789c42f5/дин.ур.бедности.PDF (дата обращения: 11.12.2018).
- Bijou Yang. The Economy and Suicide: A Time-Series Study of the USA // The American Journal of Economics and Sociology. 1992. Vol. 51, iss. 1. P. 87-99. x. DOI: 10.1111/j.1536-7150.1992.tb02512
- Кондричин С.В. Региональная дифференциация электоральных установок, уровня самоубийств и смертности от насильственных причин: к вопросу об этногенезе социального поведения // Социологический журнал. 2000. № 3-4. С. 98-117.
- Kosky R. Childhood Suicidal Behavior // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1983. Vol. 24, iss. 3. P. 457-468. x.
- DOI: 10.1111/j.1469-7610.1983.tb00121
- Мягков А.Ю., Журавлева И.В., Журавлева С.Л. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные формы и факторы // Социологический журнал. 2003. № 1. С. 48-70.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. / общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. М., 1996. 344 с.
- Дуткин М.П. Этнокультуральные факторы суицидального поведения // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2017. № 4 (09). С. 42-45.
- Положий Б.С. Концептуальная модель суицидального поведения // Суицидология. 2015. Т. 6, № 1 (18). С. 3-7.
- Положий Б.С., Куулар Л.Ы., Дуктен-оол С.М. Особенности суицидальной ситуации в регионах со сверхвысокой частотой самоубийств (на примере Республики Тыва) // Суицидология. 2014. № 1 (14). С. 11-18.
- Амаголонова Д.Д. Буддизм, государство и общество // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и культура: третьи Доржиевские чтения. СПб., 2009. С. 35-42.
- Чечева А.В. Социологическое исследование: отношение современной молодежи Бурятии к свободе совести // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и культура: третьи Доржиевские чтения. СПб., 2009. С. 72-77.
- Джидарьян И.А. Представления о счастье в российском менталитете. СПб., 2001. 242 с.
- Резник Ю.М. Человек в поисках смысла жизни и счастья (рефлексивные заметки) // Философия и культура. 2008. № 4. С. 153-165.
- Федотова В. Апатия на Западе и России // Вопросы философии. 2005. № 3. С. 3-18.
- Непосредственные вопросы (эмпирические данные). М., 2011. Вып. 1.