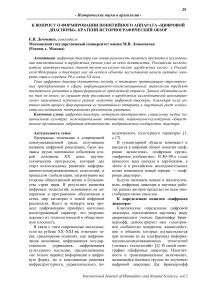К вопросу о формировании понятийного аппарата "цифровой диаспоры". Краткий историографический обзор
Автор: Демченко Е.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3 (18), 2018 года.
Бесплатный доступ
Цифровая диаспора как новая реальность является предметом исследования отечественных и зарубежных ученых уже не одно десятилетие. Российские исследователи заинтересовались данной темой несколько позже зарубежных коллег: в Российской Федерации о диаспорах как об особом объекте исследований начали активно говорить лишь в середине 90-х годов XX века. Тема цифровых диаспор достаточно молода, а постоянно протекающие стремительные преобразования в сфере информационно-коммуникационных технологий требуют постоянного развития и трансформации ее предметной отрасли. Данное обстоятельство, тем не менее, не мешает ряду российских и зарубежных исследователей целенаправленно заниматься изучением разных аспектов цифровой диаспоры, благодаря чему активно идёт процесс формирования ее понятийного аппарата и ощутимый рост количества исследований, поддержанных различными грантами.
Цифровая диаспора, интернет-пространство, социальные медиа, национальная культура, межнациональные отношения, национально-культурные общественные организации, гибридная идентичность, воображаемые сообщества, диаспора
Короткий адрес: https://sciup.org/170190398
IDR: 170190398
Текст научной статьи К вопросу о формировании понятийного аппарата "цифровой диаспоры". Краткий историографический обзор
В связи с этим современные исследователи на рубеже XX–XXI вв. отмечают такие «расширения понятия», как цифровизация экономики, цифровизация государственного управления, цифровизация культурного наследия, предполагающие «не только перевод информации в цифровую форму, но и комплексные решения инфраструктурного, управленческого, по- веденческого, культурного характера» [1, с.17].
В гуманитарной области возникают и вводятся в широкий оборот понятия «цифровая экосистема», «цифровая среда», «цифровое сообщество». В 80–90-х годах прошлого века сначала в зарубежном, а затем и в российском исследовательских полях появляется новый термин — «цифровая диаспора».
Будучи явлением новым и малоизученным, цифровая диаспора в научных работах разных авторов предстает во всем многообразии своих смыслов.
К определению понятия «цифровая диаспора»
Классическое определение цифровой диаспоры, предложенное научному миру американским ученым Дженнифер Бринкерхофф, демонстрирует нам «электронное сообщество мигрантов, взаимодействие и общение которых осуществляется при помощи (и на платформах) информационно-коммуникационных технологий («новых» технологий)» [2]. В своей монографии «Цифровые диаспоры. Идентичность и транснациональное включение», являющейся базовым трудом по изучению цифровой диаспоры, Дж. Бринкерхофф дает интерпретацию виртуальных комьюнити мигрантов как добровольных сообществ, построенных на основе принципов низких барьеров для входа/выхода, неиерархической коммуникации и доброволь-ности/ненасильственности общения. Ей же принадлежит определение роли интернет -платформ как «места встречи в повседневной жизни мигрантов» [2].
В «цифровых диаспорах» Дж. Бринкерхофф видит прежде всего площадки для ведения публичных дискуссий и переопределения идентичности, а также подкрепления групповых норм: «В качестве участников члены киберсообществ обеспечивают проверку и коррекцию в процессе переговоров версий идентичности, они по-прежнему обеспечивают разделяемые социальные нормы в целях групповой солидарности» [2, с. 36].
Российский исследователь В.М. Пешкова, со своей стороны, рассматривает онлайн связи как новые пути для формирования диаспорных сообществ, которые, благодаря Интернету, «через идентификацию с несколькими местами одновременно, воспроизводят и изменяют существующие признаки пространства и места, что влияет и на повседневные практики членов диаспорных групп». Само же понятие «цифровых диаспор», по мнению ученого, было введено именно для обозначения возрастающей роли информационнокоммуникативных технологий и Интернета в жизни диаспорных групп. Цифровые диаспоры, считает она, принципиально важны для политики идентичности, а также «для получения людьми опыта и знаний для жизни с высоким уровнем неопределенности и проблем в многокультурном российском обществе» [3, с.137].
Исследовательница из Маастрихтского университета объединенных наций Элени Дике акцентирует иную сторону социальных сетей, которые, по ее мнению, позволяют отдельным лицам и общинам делиться, обсуждать, организовывать, планировать и совместно создавать проекты в цифровом пространстве. В основном, отмечает она, «сайты социальных сетей… служат мигрантам для поддержания прочных связей с родной страной, выстраива- ния транснациональных сетей, быстрого распространения информации и обеспечения межличностных связей внутри диаспоры». Она подчеркивает и важнейшую психологическую функцию социальных сетей, которая заключается в доступе к ежедневному контакту с друзьями и близкими в социальных сетях, что «создает жизненно важный источник эмоциональной и психологической поддержки» [4].
Российский эксперт в сфере коммуникаций Е.Л. Вартанов, с учетом данных развития цифровых технологий последних лет, предлагает свою характеристику цифрового сообщества, которая может быть распространена и на такую его часть, как цифровая диаспора. По мнению ученого, находясь в цифровых средах, к которым сегодня относят мобильную телефонию, электронную почту и социальные сети, современные пользователи «начали формировать и новые цифровые сообщества (как выражаются некоторые аналитики — популяции), связанные не с географическим нахождением, а с цифровым присутствием [1, с.18]. Высказывая сомнение в том, что аудиторию социальных медиа правомерно считать популяцией в строго научном смысле, она в то же время указывает на факт приобретения пользователями Сети в рамках онлайн-коммуникаций, как и в рамках популяции, «определенного сходства, единства в поведении и даже в самовоспроизводстве» [1, с.18].
В случае с цифровой диаспорой это утверждение вызывает вполне правомерный вопрос: если посредством социальной сети возможно формирование идентичности, то можно ли рассматривать наличие развитой онлайн коммуникации как один из признаков существования диаспоры?
Именно на высокую способность цифровых диаспор поддерживать общность интересов и самобытность указывает и социолог, представитель Центра прикладных исследований интеллектуальной собственности С.В. Бондаренко. По мнению ученого, об этом свидетельствует растущее влияние веб-сайтов и иных виртуальных публичных площадок на процессы формирования общественного мнения. Он отмечает, что цифровые диаспоры «позволяют на качественно ином уровне сформировать чувство коллективной идентичности, связанной с исторической родиной, даже если речь идет скорее о мифологии, к примеру, находящей отражение в контенте ностальгических сайтов, оживляющих «утраченное» прошлое» [5, с.4].
Цифровая реальность, уверенно входящая в повседневную жизнь диаспоры, поставила перед научным миром серьезную задачу о соотношении онлайн и оффлайн коммуникаций.
По мнению ученого из Казани Л.Г. Исхаковой, именно «действия онлайн отражают и придают новую форму жизни сообщества иммигрантов оффлайн» [6, с.62]. Поэтому необходимым условием существования цифровой диаспоры исследователь считает участие ее членов (группы иммигрантов) «в кибер-коммуникации с другими участниками из сети контактов» [6, с.62].
Упомянутый выше социолог С.В. Бондаренко, в свою очередь, уверен, что участники виртуальных сетевых сообществ, созданных в недрах цифровых диаспор, должны обладать «не только онлайновыми, но и оффлайновыми, то есть «гибридными идентичностями»» [5, с.4].
Психолог Элени Дикер видит в социальных сетях прежде всего вид эмоциональной поддержки. Она убеждена, что в контексте интеграции мигрантов в принимающее сообщество наличие онлайн коммуникации «может привести к увеличению психологического благополучия мигрантов и поощрять их к увеличению социальных контактов в офлайновых мирах». Кроме того, «использование социальных сетей способствует и укреплению прочных связей с новыми людьми в принимающих их странах» [4].
Таким образом, при определении цифровой диаспоры одни исследователи делают акцент на ее психологической значимости, другие – на способности поддерживать самобытность членов диаспоры, третьи отмечают ее удивительное свойство преодолевать глобальные расстояния и служить местом встречи людей, разделенных географическими и временными границами.
Этот ряд был бы не полным без еще одного термина, к использованию которого часто прибегают в научном мире при характеристике цифровых диаспор — «воображаемые сообщества». Автором этого термина является британский политолог и социолог Бенедикт Андерсон, издавший в 1980-х годах нашумевшую монографию «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма» [7, с.234]. Его меткое определение оказалось столь удачным (в формате социологического феномена), что было заимствовано и стало широко использоваться в научных трудах по исследованию… цифровых диаспор.
Вопрос о едином определении цифровой диаспоры остается открытым и требует дополнительных исследований.
Журнал «Диаспоры» и критика Рейт-блата
Своеобразный вклад в формирование нового исследовательского поля, связанного с цифровой диаспорой, внес авторитетный современный отечественный исследователь диаспор А.И. Рейтблат. На страницах специализированного журнала «Диаспоры» в 2014 году вышла его статья «Диаспоры и «Диаспоры», в которой он подвергает критическому осмыслению содержание одноименного журнала, выходящего в России с конца 1999 года. Рейт-блат исследует факт наличия и частоту появления на страницах специализированного журнала публикаций, посвященных роли СМИ, Интернета и социальных медиа с позиции изучения современных диаспор.
По мнению А.И. Рейблата, именно телевидение и Интернет «создали возможность для синхронной, «онлайновой» коммуникации, для повседневного коммуникационного (в том числе делового, политического, художественного) участия диаспор в жизни родины» [8]. Поэтому А.И. Рейтблат, подчеркивая ошибочность позиции тех своих коллег, которые при изучении идентичности диаспор «обычно игнорируют социальные институты, «отвечающие» за создание и поддержание диас-поральной идентичности» [8], остается категоричен: «в журнале очень редко встречаются работы, в которых бы исследова- лась роль школы, церкви, литературы, кино, средств массовой коммуникации, особенно Интернета, в этом процессе» [8]. Свои выводы аргументирует статистикой: за те пять лет (с 2008 по 2013 гг.), которые были определены им для изучения роли Интернета, на страницах специализированного журнала появилось лишь четыре подобных работы. Две из них — «Европейцы живут в Европе!» и «Интернет-сообщество постсоветских мусульманок в Британии: религиозные практики и поиски идентичности» — принадлежат перу одного автора, О.А. Моргуновой [9].
Надо отметить, что за несколько лет, последовавшие за выходом статьи исследователя, были отмечены серьезным научным интересом к теме новых электронных коммуникаций. Этот интерес сегодня настолько очевиден, что И.А. Рейтблат, еще недавно подвергший своих коллег грозной критике за недостаточное внимание к цифровой реальности, в наши дни едва бы нашел достаточно аргументов для подтверждения своего упрека.
Исследовательские проекты по изучению цифровой диаспоры
Среди европейских ученых важное место в масштабном исследовании электронных коммуникаций и, в частности, аспектов существования цифровой диаспоры принадлежит Дане Диминеску и ее международной команде. В 2012 году под руководством Д. Диминеску был реализован масштабный проект, являющийся частью исследований французского Дома наук о человеке, а точнее — его программы изучения электронных коммуникаций мигрантов (Fondation Maison des Sciences de l’Homme ICT Migrations program. — Авт .) — «Атлас электронных диаспор». В рамках проекта было изучено и представлено в виде архива около 8000 мигрантских вебсайтов [10].
По меткому и образному определению одного из членов команды О.А. Моргуновой, этот проект стал «попыткой создать карту дорог, проложенных в цифровом пространстве людьми, живущими за пределами тех стран, где они родились» [11]. Сама О.А. Моргунова в рамках этого проекта занималась составлением электрон- ной карты русскоязычной диаспоры европейских стран. Она, в свою очередь, ввела понятие «национальных сайтов», определяя их роль как площадок, где мигранты «могут обсудить общие интересующие их проблемы и опыт, связанный с адаптацией в новой стране, а также предоставить советы и информацию для переселенцев» [11]. Немаловажно, считает Моргунова, что на этих сайтах излагаются и комментируются национальные новости и формируются общие дискурсы. Это наблюдение позволяет ей сделать вывод о том, что в процессе адаптации мигранты активно создают информационное пространство диаспоры с помощью новостных порталов и сайтов традиционных СМИ.
Между тем, комментируя ситуацию с изучением данного аспекта жизни диаспор своими европейскими коллегами, О.А. Моргунова отмечает, что в целом учреждения, занимающиеся мониторингом Интернета, его использования и развития (такие, как Оксфордский институт Интернета или Беркмановский центр Интернета и общества), имеют тенденцию к «англоцен-тричности» (то есть к изучению английского как языка коммуникации) и «не уделяют большого внимания такой маргинальной области применения цифровых технологий, как интернет-общение мигрантов» [11].
Частично подобная исследовательская работа, точнее — исследование одного из ее аспектов было проведено и группой российских ученых факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2016 году под руководством старшего научного сотрудника кафедры теории и экономики СМИ А.А. Гладковой там был реализован межкафедральный научноисследовательский проект «Атлас этнических СМИ России» [12]. Говоря о научной новизне проекта, его авторы особо отмечали отсутствие до настоящего времени системного исследования этнических СМИ России, в том числе электронных. В рамках проекта группой исследователей был проведен комплексный анализ основных типов СМИ, выходящих на языках первых десяти наиболее многочисленных этнических групп (исключая русских), со- гласно Всероссийской переписи населения 2010 года проживающих на территории наиболее крупных городов республик Российской Федерации.
С 2016 года глобальный проект по исследованию виртуальной этнонациональ-ной идентичности мигранта в зеркале российских социальных сетей реализуется группой ученых Томского государственного университета. Одним из результатов этой работы стала коллективная монография ««Цифровые диаспоры» мигрантов из Центральной Азии: виртуальная сетевая организация, дискурс «воображаемого сообщества» и конкуренция идентичностей». Труд создан на основе изучения цифровой диаспоры российских мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в течение двух лет (2015–16 гг). Исследователями описан и проанализирован феномен воспроизводства этнической идентичности в цифровых диаспорах российских мигрантов из стран Центральной Азии на платформах российских социальных сетей. В частности, показано, каким образом транзит офлайн-сетей мигрантов в формат цифровых диаспор меняет природу социальной организации и коммуникаций мигрантов.
По мнению томских исследователей, социальные сети-сообщества мигрантов, при всей их значимости и популярности, носят характер «квазиинститутов». Это обусловливается тем, что они «не институционализированы в структуру принимающего сообщества, их функционирование не кодифицировано и не легализовано и в любой момент может быть подвергнуто рестрикции (ограничениям)» [13, с.26].
В качестве подтверждения своего вывода ученые приводят такие признаки сети-сообщества как простота входа и выхода в него, добровольность участия, возможность искажения информации о себе, плюрализм и конкуренция дискурсов. В то же время в виртуальных этнокомьюнити исследователи видят социальный капитал, который аккумулируется благодаря добровольной активности мигрантов-участников групп и который, по их мнению, можно интерпретировать как виртуальную соци- альную инфраструктуру коммуникации. Эта инфраструктура позволяет мигранту — члену сообщества — получать различные прибыли (часто не монетарного характера). Подключение к сетевому общению, отмечают авторы исследования, представляет для мигранта-участника ощутимые выгоды «в форме полезных связей и взаимных обязательств, прагматически важной информации и новостей с родины, эмоционально-психологического подкрепляющего общения, возможностей завязывания контактов в офлайн [13, с.30].
Заключение
Подводя итог краткому историографическому обзору формирования в научной литературе понятийного аппарата цифровой диаспоры, отметим наметившийся в последние десятилетия серьезный интерес к этой теме. В результате комплексных исследований понятийный аппарат цифровой диаспоры постоянно пополняется новыми терминами, которые тут же вводятся в научный оборот.
Можно констатировать тот факт, что в современном исследовательском поле присутствует общее понимание сути цифровой диаспоры и той реальности, которую она характеризует.
Становится очевидным, что цифровая диаспора, как предметная область диаспо-роведения, выходит за рамки принадлежности к определенной сфере знаний и характеризуется междисциплинарностью. Так, различные аспекты функционирования цифровой диаспоры становятся предметом изучения лингвистов, психологов, социологов, этнологов, историков, специалистов по коммуникации. В то же время в работах ученых цифровая диаспора предстает как многоплановое явление, многие аспекты которого остаются открытыми для изучения.
В ряде работ отечественных исследователей можно найти прогноз жизнеспособности цифровой диаспоры, которую, как часть цифрового медиапространства, ожидают те же трансформации, которые происходят и внутри этого пространства. Так, например, уже сегодня звучат заявления о том, что аудитория интернет-СМИ уже в ближайшем будущем будет заметно огра- ничена возрастом ее потенциальных пользователей. Ряд экспертов настаивает на том, что поколение тех, кому сегодня 3035 лет и больше, «отличается продолжительным опытом пребывания в традиционной, бумажной …медиасреде, что ста- вит под сомнение окончательную адаптацию его представителей к онлайн среде» [1, с.131]. По аналогии с современной классификацией медиаресурсов (традиционные и новые. – Авт.) эту группу предла- гается называть «традиционной аудиторией».
В отношении цифровой диаспоры этот прогноз требует серьезного исследования, так как именно платформа новых медиа служит сегодня ощутимым коммуника- тивным ресурсом диаспоры, позволяющей ее членам проявлять свою этническую идентичность, пусть даже и в виртуальной реальности.
Список литературы К вопросу о формировании понятийного аппарата "цифровой диаспоры". Краткий историографический обзор
- Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Макеенко М.И., Смирнов С.С. -Индустрия российских медиа: цифровое будущее. . -М., МедиаМир, 2017. -160 с.
- Jennifer M. Brinkerhoff. Digital Diasporas. Digital diasporas: identity and transnational engagement. - Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Р.86 // Цитата по Кужелева-Саган И.П., Глухов А.П., Ахметова Л.В., Бычкова М.Н., Гужова И.В., Носова С.С., Окушова Г.А., Стаховская Ю.М. "Цифровые диаспоры" мигрантов из Центральной Азии: виртуальная сетевая организация, дискурс "воображаемого сообщества" и конкуренция идентичностей / науч. ред.И.П. Кужелева-Саган. -Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. - 168 с. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.katpo.tspu.ru/upload/sborniki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B.pdf (дата обращения 10.02.2018).
- Пешкова В.М. -Диаспорные печатные издания как альтернативное медийное пространство для репрезентации этнокультурного разнообразия России//Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. №4. с. 124-142. . -URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=3026 (дата обращения 20.02.2018).
- Eleni Diker, 2015, Social Media and Migration/Review of Political and Social research Institute of Europe//Цитата по Глухов А. П., Окушов Г.А. -Виртуальная этнонациональная идентичность мигранта в зеркале российских социальных сетей, А. П. Глухов, Г.А. Окушов. . -URL: http://www.katpo.tspu.ru/index.php?m=66&p=article&d=195 (дата обращения 20.02.2018).
- Бондаренко С.В. Проблемные локусы методологии «цифровых диаспор» и «виртуальных сообществ мигрантов»//Регулирование социально-этнических процессов в условиях региональных рисков экстремизма. Сборник тезисов докладов межрегиональной научно-практической конференции. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2010 г. С. 192-200. . -URL: http://www.ifap.ru/pr/2010/n101119a.pdf (дата обращения 10.02.2018).