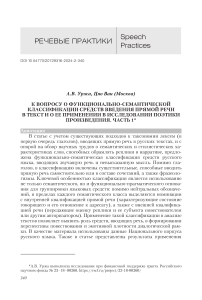К вопросу о функционально-семантической классификации средств введения прямой речи в текст и о ее применении в исследовании поэтики произведения. Часть 1
Автор: Уржа А.В., Ван Ц.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Речевые практики
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье с учетом существующих подходов к таксономии лексем (в первую очередь глаголов), вводящих прямую речь в русских текстах, и с опорой на обзор научных трудов о семантических и стилистических характеристиках слов, способных обрамлять реплики в нарративе, предложена функционально-семантическая классификация средств русского языка, вводящих звучащую речь и невысказанную мысль. Помимо глаголов, в классификацию включены существительные, способные вводить прямую речь самостоятельно или в составе сочетаний, а также фразеологизмы. Ключевой особенностью классификации является использование не только семантического, но и функционально-прагматического основания для группировки языковых средств: помимо нейтральных обозначений, в пределах каждого семантического класса выделяются номинации с внутренней квалификацией прямой речи (характеризующие состояние говорящего и его отношение к адресату), а также с внешней квалификацией речи (передающие оценку реплики и ее субъекта повествователем или другим авторизатором). Применение такой классификации в анализе текстов позволяет выявить роль средств, вводящих речь, в формировании перспективы повествования и эмотивной плотности диалогической рамки. В качестве материала использованы данные Национального корпуса русского языка. Также в статье представлены результаты применения предложенной классификации в лингвостилистическом исследовании романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», позволяющие обосновать известные и выявить некоторые новые феномены в этом классическом тексте.
Прямая речь, классификация, глагол, существительное, перспектива, модус, семантика, прагматика, достоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/149146234
IDR: 149146234 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-340
Текст научной статьи К вопросу о функционально-семантической классификации средств введения прямой речи в текст и о ее применении в исследовании поэтики произведения. Часть 1
Прямая речь как разновидность чужой речи, вводимая в текст с сохранением всех ее лексико-синтаксических и стилистических особенностей, «актуального, модального и структурного плана» [Чумаков 1977, 13], с одной стороны, представляет собой один из древнейших элементов литературных произведений, а с другой, является сферой художественных инноваций и объектом активных научных исследований [Кодухов 1957, Милых 1958, Hellgren 1980, Кожевникова 1994, Щербакова, Резникова 2017, Дюзенли 2023 и др.]. Прямая речь представляет не только реплики персонажей текста, но и их письма, дневниковые записи, смс и голосовые сообщения, фрагменты интернет-постов и чатов, тексты объявлений и лозунгов. Она, согласно замыслу автора, может принадлежать не только людям, но и животным, и неодушевленным предметам в случае персонификации. Особого внимания заслуживает внутренняя прямая речь – произносимое про себя высказывание, оформленное в качестве специфической реплики или монолога, «слышного» только самому герою, всеведущему автору и читателю [Бабенко, Казарин 2005, 179].
Среди способов введения прямой речи (помимо пунктуационных знаков, применение которых кодифицировано [Кодухов 1957 и др.]) внимание филологов традиционно привлекают глаголы: давно отмечено, что в русскоязычном дискурсе в рамку, охватывающую речь, включаются не только глаголы говорения ( сказать, произнести ), но и обозначения эмоций ( обрадоваться, насторожиться ) и эмоциональных жестов ( всплеснуть руками, закатить глаза ) [Милых 1958, Андреева 2015]. Существует и ряд других семантических групп глаголов, регулярно используемых в такой функции. Эта тема приобрела в наши дни дополнительную актуальность в связи с дискуссиями нарратологов и переводоведов о различии языковых норм и повествовательных традиций в сфере приемов применения монотонной и вариативной диалогической рамки [Even-Zohar 1991, Уржа 2018, Филатова 2023].
Однако при наличии ряда классификаций глаголов, способных вводить прямую речь в русских текстах, на данный момент отсутствует развернутая функционально-семантическая классификация всех лексических средств, используемых в такой функции. Семантические группы выделяемых глаголов не соотнесены последовательно с группами существительных и устойчивых сочетаний, одни и те же лексемы нередко попадают в разные классы, а сами классы не сопоставлены друг с другом в функциональном плане: не выявлена роль, которую средства разных групп играют при построении текстов с прямой речью. В существующих классификациях не учтено соотношение диктумных и модусных характеристик средств, вводящих реплики персонажей.
Цель данной статьи – с учетом существующих подходов к таксономии глаголов, вводящих прямую речь в русских текстах, предложить функционально-семантическую классификацию разнообразных средств русского языка, используемых в этой роли, сопоставив выделенные классы в отношении их семантических особенностей, взаимодействия с контекстом и роли в дискурсе. В качестве материала используются данные Национального корпуса русского языка. Иллюстрируя применение классификации в лингвостилистическом исследовании, авторы статьи представляют новые результаты работы с текстом романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: в этом популярном для изучения прямой речи и ее обрамления источнике [Захарова 2006, Дюзенли 2023 и др.] предлагаемая таксономия позволяет обосновать известные и выявить некоторые новые феномены.
Научные подходы в сфере таксономии языковых средств, вводящих прямую речь в текстах
Среди лексем, вводящих прямую речь в текстах, наиболее подробно описаны глаголы говорения, или глаголы речи. Их функционированию и классификации посвящен обширный пласт научной литературы. Однако, излагая историю этого научного вопроса, необходимо сразу выделить две проблемы, сопутствующих его изучению и обусловленных несовпадением круга глагольных лексем, обозначающих речь, и лексем, способных вводить ее в текст.
Во-первых, нередко основанием отнесения глагола к кругу глаголов говорения становится его способность вводить прямую речь, вследствие чего этот круг неоправданно расширяется. Например, в статье «Глаголы говорения в современном русском языке: подходы к классификации» [Чжан, Редькина 2016], где аккумулируются самые известные таксономии глаголов речи, в качестве основополагающей приводится система, предложенная В.И. Кодуховым [Кодухов 1957]. Однако эта система описывает рамки прямой речи, в нее включены глаголы улыбнуться , удивиться или слышать , которые к глаголам говорения не принадлежат, хотя действительно могут вводить реплики в дискурсе. И.М. Кобозева справедливо замечает: «Для интерпретации предложений с прямой речью вовсе нет необходимости толковать глаголы подмигнуть, обрадоваться, побелеть, возмущаться или удивляться как глаголы речи. Сему «говорить» здесь естественнее считать имплицированной в значении самой конструкции, называемой прямой речью» [Кобозева 1985, 102].
Во-вторых, распространен и противоположный подход, при котором именно для глаголов говорения свойство вводить прямую речь считается естественной характеристикой. Однако далеко не все слова, включающие сему «произнести что-либо», способны вводить реплики в тексте. В одной из самых известных классификаций глаголов говорения, предложенной Л.М. Васильевым, можно обнаружить слова недоговорить, недосказать, клеветать или обижать [Васильев 1981, 11–18], после которых прямая речь следовать не может. В работе И.А. Ермолаевой в рамках группы глаголов речи выделяются «каузативные глаголы речи», среди которых есть не только внушать и распорядиться , но и возбранять, навязывать [Ермолаева 2017, 365], не дающие ни одного вхождения с прямой речью в НКРЯ.
Таким образом, группы глаголов речи и глаголов, способных вводить прямую речь, представляют собой лишь частично пересекающиеся зоны лексики. Возможность вводить реплику обусловлена не только семантикой глагола, но и его индивидуальной сочетаемостью.
Следующей важной проблемой при исследовании глаголов, способных вводить прямую речь, становится поиск оснований для их классификации. Представляя обзор существующих авторитетных таксономий (В.И. Ко-духова, З.В. Ничман, Л.В. Уманцевой, М.К. Милых и др.), Е.Г. Андреева пишет: «Во всех предлагаемых вариантах на первом этапе глагольные единицы выделяются на основе выполняемой ими функции – введения несобственной речи, и уже далее для разнесения на классы привлекается семантический критерий» [Андреева 2015, 364].
Упомянутое функциональное основание оказывается очень общим, оно по сути просто позволяет нам выделить все глаголы, включенные в классификацию, и не формирует значимых оппозиций. Семантические же критерии для выделения частных классов способствуют весьма дробному делению с дальнейшим пересечением части подгрупп. Создатели классификаций отмечают это пересечение как неизбежное следствие работы с лексемами, в значениях которых соединяются разнообразные семы: один и тот же глагол (например, заголосить ), может быть отнесен к группам, обозначающим фазу речевого действия, звуковую характеристику речи (по параметру громкости или интенсивности) и ее эмоциональную окрашенность [Милых 1958, 66–69, Ермолаева 2017 и др.]. Ю.А. Бессонова справедливо замечает: «В слове зафиксирована работа целого человеческого организма, различных органов. Поэтому в значении находят взаимодействие и выражение семантические элементы, называющие разнообразные виды деятельности организма: психической, физической, эмоциональной, волевой. Таким образом, слово, отражая их, оказывается центром пересечения многих смыслов, относящих его не к одному полю или ЛСГ» [Бессонова 2011, 34].
В отличие от глаголов, существительные, входящие в состав предикатов, вводящих прямую речь, не представляют в научных трудах отдельных разветвленных классификаций. В.И. Кодухов отмечает, что такие существительные в большинстве своем «являются однокоренными с глаголами говорения и мысли и имеют близкие к ним значения» [Кодухов 1957, 21]. М.К. Милых выделяет в составе ремарок существительные, имеющие «обобщенное значение» ( слова, фраза, тема )», «содержащие оценку высказывания по его общей целенаправленности» ( вопрос, ответ, приказ ) или «по более частной модальной окраске» ( ложь, упрек, жалоба ) [Милых 1958, 138–140]. Такие слова комбинируются с глаголами движения ( вбежал с криком, приехал с предложением ), с фазисными глаголами ( начал рассказ ) и т.п.
Важно отметить, что далеко не все девербативы от глаголов речи способны вводить реплики. Так, в работе С.Л. Михеевой дериваты от глагола говорить подразделяются на группы по значениям, при этом члены некоторых групп способны вводить речь (договор, приговор, оговорка), а другие – нет (сговор, заговор) [Михеева 2018]. Результаты этого исследования показывают, что принадлежность слова к определенному семантическому типу является более важным фактором, обусловливающим его способность / неспособность вводить прямую речь, чем его деривационные характеристики.
Прямую речь могут вводить также идиомы со значением речевой деятельности ( нести чепуху, заливаться соловьем ), этот феномен отмечен в ряде исследований [Васильев 1981 и др.], однако недостаточно изучены аналогичные возможности фразеологических единиц, обозначающих мыслительную деятельность, например, стукнуло в голову :
«Там пыточная!» – стукнуло в голову , и Василия Кирилловича неудержимо потянуло пасть на колени и во всем покаяться (Ю. Нагибин, НКРЯ).
Итак, обзор классических и новых трудов, затрагивающих вопрос о грамматических и семантических характеристиках языковых средств, вводящих прямую речь, показывает, что существует необходимость более системной и развернутой классификации таких средств с учетом не только формальных, смысловых и стилистических, но и прагматических параметров. Нужно ввести в классификацию функциональный критерий, который формировал бы оппозиции между классами. Важно включить в таксономию языковых средств, вводящих речь, факторы, определяющие их участие в формировании перспективы текста, соотношения представленных в нем точек зрения.
Список литературы К вопросу о функционально-семантической классификации средств введения прямой речи в текст и о ее применении в исследовании поэтики произведения. Часть 1
- Андреева Е.Г. Сопоставительный анализ семантических классов глаголов, вводящих прямую речь (английский и русский языки) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 1. С. 362-373.
- Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. М.: Флинта: Наука, 2005. 496 с.
- Бессонова Ю.А. Семантическое микрополе глаголов речи в литературном языке и говорах // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2011. № 1(8). С. 33-37.
- Васильев Л.М. Семантика русского глагола. М.: Высшая школа, 1981. 184 с.
- Дюзенли М.В. Стандартные операторы ввода прямой речи как маркеры иди-остиля писателя // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2023. Т. 25. № 2. С. 199-210.
- Ермолаева И.А. Семантическая классификация глаголов речи в русском языке // Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2017. Т. 14. Вып. 3. С. 362-375.
- Захарова О.А. Глаголы, вводящие речь, как характеристика образа автора и образа ритора (На материале произведений Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»): дис.... к. филол. н.: 10.02.19. М., 2006. 163 с.
- Кобозева И.М. О границах и внутренней стратификации семантического класса глаголов речи // Вопросы языкознания. 1985. № 6. С. 95-103.
- Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь в современном русском языке. Л.: Учпедгиз, 1957. 87 с.
- Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М.: ИРЯ РАН, 1994. 333 с.
- Милых М.К. Прямая речь в художественной прозе. Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1958. 240 с.
- Михеева С.Л. Существительные со значением речевого действия в русском языке // Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы. Труды и материалы. Т. 2. Казань: Издательство Казанского университета, 2018. С. 113-116.
- Уржа А.В. Стратегии интерпретации глаголов, вводящих речь, в современных русских переводах художественной прозы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2018. Т. 17. № 4. С. 117-128.
- Филатова Г.А. Стилистическая интерпретация глаголов речевого действия при переводе фантастического текста // Новый филологический вестник. 2023. № 4(67). С. 58-69.
- Чжан Ливэй, Редькина О.В. Глаголы говорения в современном русском языке: подходы к классификации // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2016. № 2-3(8). С. 75-79.
- Чумаков Г.М. Чужая речь как лингвистическая категория и проблемы грамматики, лексикологии, стилистики: автореф. дис.... д. филол. н.: 10.02.01. Днепропетровск, 1977. 48 с.
- Щербакова И.В., Резникова А.В. Способы передачи и структурные виды чужой речи // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7(73). С. 174-176.
- Even-Zohar I. Depletion and Shift // Polysystem Studies. Poetics Today. 1990. № 11(1). P. 195-206.
- Hellgren L. Dialogues in Turgenev's Novels: Speech-Introductory Devices. Stolkholm: Almqvist & Wiksell International, 1980. 148 p.