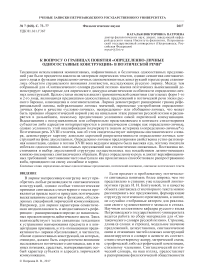К вопросу о границах понятия "определенно-личные односоставные конструкции" в поэтической речи
Автор: Патроева Наталья Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.
Бесплатный доступ
Тенденции использования номинативных, инфинитивных и безличных односоставных предложений уже были предметом анализа на материале лирических текстов, однако семантика синтаксического лица и функции определенно-личных однокомпонентных конструкций гораздо реже становились объектом специального внимания лингвистов, исследующих русскую лирику. Между тем собранный для «Синтаксического словаря русской поэзии» массив поэтических высказываний демонстрирует характерные для лирического дискурса семантические особенности определенно-личных конструкций. Целью статьи является анализ грамматической семантики глагольных форм 1-го и 2-го лица, являющихся предикатами односоставных предложений в поэтической речи эпохи русского барокко, классицизма и сентиментализма. Лирика демонстрирует расширение границ референциальной основы, нейтрализацию личных значений, переносные употребления определенноличных форм в качестве «условно-личных», неопределенно- или обобщенно-личных, что может быть признано общепоэтической нормой уже на начальном этапе развития русской поэзии и расширяется в дальнейшем, поскольку продиктовано условиями самой лирической коммуникации. Высказывания с неодушевленным или собирательно представляемым в контексте стихотворения субъектом либо адресатом интерпретируются в синтаксическом словаре как определенно-личные, однако условность этой квалификации подчеркнута знаком астериска («определенно-личные*»). Поэтическая речь XVIII столетия, как об этом свидетельствуют материалы синтаксического словаря, демонстрирует картину довольно скромной репрезентативности определенно-личных конструкций на фоне двусоставных. Определенно-личным предложениям свойственна устно-разговорная коннотация, однако в поэзии XVIII века ведущим жанром была высокая ода, поэтому писатели избегали односоставных глагольных предложений как стилистически сниженных. Постановка местоимения и выбор двусоставной структуры осуществлялись под воздействием латино-немецких книжно-письменных синтаксических образцов. Играл определенную роль и диктат верификационных требований: местоимение часто выступало как проклитика и способствовало распространению ямба, пришедшего на смену силлабике и хорею.
Определенно-личные односоставные предложения, поэтический синтаксис, синтаксис поэтического текста
Короткий адрес: https://sciup.org/14751243
IDR: 14751243 | УДК: 81.161.1367
Текст научной статьи К вопросу о границах понятия "определенно-личные односоставные конструкции" в поэтической речи
В лирике экспрессивную нагрузку могут приобретать любые разновидности синтаксических конструкций, однако особые типологические признаки синтаксиса стихотворного текста проявляются прежде всего в присущих поэтическим высказываниям семантике и функциях, обусловленных спецификой лирической коммуникации. Например, для лирики характерны семантическая неодноплановость и неоднозначность референции – расширяющаяся нередко до максимальных пределов широта дейктического жеста. Здесь взаимодействуют тесно связанные тенденции к устранению наименования предмета и к концентрации признаков, и эта «повышенная предикативность» лирики обусловливает, в частности, обилие односоставных конструкций, на которых, очевидно, должно быть сосредоточено внимание исследователя поэтического синтаксиса, как и на иных позициях, средствах, подчеркивающих особый характер субъекта и адресата лирической коммуникации.
Если предмет и проблематику поэтического синтаксиса понимать более широко, чем это представлено в ставших уже классикой лингво-поэтики трудах И. И. Ковтуновой, то в качестве объекта синтаксиса стихотворного текста можно рассматривать все предложения, формирующие структуру поэтического произведения, а значит, не случайно отобранные автором для реализации своего художественного замысла в стихах. Научным коллективом кафедры русского языка Петрозаводского государственного университета ведется работа по сбору материалов для «Синтаксического словаря русской поэзии». Строение, длина (в словах и строках), модальное значение предложений, целеустановка, синтаксические связи и отношения частей сложных конструкций анализируются в словаре в аспекте их соответствия стихотворному жанру, метрической схеме, строфической либо астрофической композиции, стиховому членению. Синтаксический поэтический словарь, на наш взгляд, предоставляет в распоряжение филологической общественности ценные сведения и материалы для создания в ближайшем будущем фундаментальной исторической грамматики русского языка XVIII века: именно в этот период судьбы языка поэзии и литературного книжно-письменного языка были тесно связаны, а реформаторами языка являлись именно поэты – М. В. Ломоносов, В. К. Треди-аковский, Н. М. Карамзин, в области же прозы «нормы литературного выражения были еще очень зыбки и неопределенны» [1: 182], так как центральное место в системе средств литературного выражения вплоть до 1830-х годов занимала стихотворная речь. Словарь предлагает характеристику синтаксических особенностей поэтических высказываний (единицей словаря является предложение как основная синтаксическая категория) в тесной связи с метром и строфической организацией произведения, поэтому материалы словаря могут стать хорошим подспорьем для продолжения исследований в области лингвистики стиха как научной области, в последние десятилетия активно и плодотворно развивавшейся усилиями не лингвистов, а стиховедов [11], [15].
Целью статьи является анализ грамматической семантики глагольных форм 1-го и 2-го лица, являющихся предикатами односоставных предложений в поэтической речи эпох русского барокко, классицизма и сентиментализма.
ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали, в частности, наблюдения О. Г. Ревзиной, Н. В. Перцова, С. Т. Золяна, «значение текста многозначно. Различные множества пропозиций, описывающие различные множества миров, могут претендовать на то, чтобы считаться значением текста… Случаи, когда тексту может быть приписано только одно правильное значение, следует рассматривать лишь как частный случай» [2: 75], неоднозначность и «темнота» поэтических текстов – вообще их «структурное свойство» [9: 424], см. также: [8]. Не случайно поэтому, что примененная в «нелексическом» писательском словаре традиционная грамматическая классификация иногда давала некоторые «сбои» в ходе проведения синтаксической разметки поэтических высказываний: участникам проекта не раз приходилось сталкиваться с «темноватыми», «непрозрачными» для анализа построениями – примерами как структурной, так и семантической контаминации конструкций, конденсации, «компрессии» лирического текста, создаваемого по принципу «как можно короче и как можно полнее» [10: 33]. Так, принятия специального решения требовала от авторов словаря, например, характеристика определенноличных предложений.
Согласно устоявшимся грамматическим представлениям, определенно-личное предложение – односоставная конструкция, сообщающая «о действии (признаке), приписываемом определенному лицу – говорящему или собеседнику. Лицо словесно не названо, на него указывают личные окончания 1-го и 2-го лица глагола: Прошу слова; Идешь домой?» – дефиниция и примеры из [3: 308]; см. также: [12: 650–652]. Таким образом, семантика «определенности» лица требует кон-ситуативно вполне однозначной соотнесенности с говорящим или адресатом (я, ты, мы, вы), однако в условиях поэтической коммуникации это типологическое свойство определенно-личных односоставных предложений нередко и довольно существенно трансформируется, тем самым в художественный контекст вносится «неопределенность», «размытость» семантики1.
Конструкции с предикатами в форме 1-го лица
Так, говорящим в поэзии малых жанров обычно является стоящий за текстом лирический герой, однако его состояние, действие, выражаемое предикатом «определенно-личной» конструкции, в процессе интерпретации содержания поэтической фразы читателем может быть отнесено им к самому себе, то есть действие это потенциально соотносится с любым читателем поэтического произведения, которому окажутся близки восприятие, мироощущение, чувства лирического героя стихотворения: Какого светлость зрю собора? (М. В. Ломоносов «Ода… Елисавете Петровне… 1759 г….»); Какую радость ощущаю? (М. В. Ломоносов «Ода… в Сарском селе»). При всем том, что за Я здесь стоит прежде всего лирическое «я», в разной степени совпадающее с личностью автора произведения (что тоже, разумеется, уже само по себе является отдельной герменевтической проблемой), значение лица у таких предложений, на наш взгляд, скорее кажется «рас-щепленным»2, «потенциально-расширенным» до того круга референтов-читателей, которые смогут ощутить то же, что и лирический герой, проникнуться его ощущениями и чувствами, вспомнить о подобном же состоянии, стать наблюдателями описываемого события, перенести, «примерить» на себя авторский «угол зрения».
Поскольку лирическое Я принимает в поэзии самые причудливые формы, это не может не оказать влияния и на семантику личной формы, также выступающей в этом случае в преобразованном в результате «деперсонализации» Я значении: Уже и купно со денницей Великолепной колесницей В безоблачных странах несусь! (М. В. Ломоносов «Ода… в Сарском селе»)3.
Интересна семантика и форм 1-го л. мн. ч. в качестве предикатов односоставных конструкций, узуально репрезентирующих определенно-личный смысл. В условиях поэтической коммуникации значение этой формы может расширяться до масштабов, близких к обобщенноличному употреблению, если, например, мы – это заместитель представителей «своего» мира (скажем, всех подданных русской царицы, как это наблюдаем в одах и надписях Ломоносова): За наш покров, за царство стройно Что можем принести достойно? Усердия бессмертный жар! (М. В. Ломоносов «Ода… Екатерине… 1764 г.); Единым сердцем все равно к тебе пылаем И тое на олтарь усердий возлагаем (М. В. Ломоносов «Надпись на иллюминацию…»).
Конструкции с предикатами в форме 2-го лица
Адресат, как и субъект лирического произведения, тоже зачастую лишен точной референтной отсылки и представлен собирательно-обобщающе: Народы! радостно внемлите… (В. К. Тредиа-ковский); Россия, коль счастлива ты Под сильным Анниным покровом! Какие видишь красоты При сем торжествованьи новом! (М. В. Ломоносов «Ода… Анне Иоанновне…»).
Эти примеры интересно сравнить с собственно определенно-личным употреблением в репликах, прямой речи персонажей, например, сатир А. Д. Кантемира или басен И. А. Крылова: «Напрасно, молокосос, суешься с советом» (А. Д. Кантемир Сатира VII); «… Подумай, вспомни хорошенько…» (И. А. Крылов).
Определенно-личными по значению как будто бы оказываются фразы, относящиеся ко вполне «конкретному» внутреннему адресату стихотворения: Прострешь свои державны длани Ко вышнему за нас в церьквах (М. В. Ломоносов «Ода на день тезоименитства… Петра Феодоровича…») – к монарху; Воззри на кровь рабов твоих (М. В. Ломоносов «Ода… Елисавете Петровне… 1759 г….») – к царице. Однако при более внимательном анализе одического дискурса и действительной истории отношений поэт – власть , деталей авторской биографии можно прийти к выводу, что «конкретный» монарх здесь – не столько реальный исторический персонаж, которого просят, которому льстят авторы од, сколько некий идеал правителя, к которому поэт обращается с наказом, заветом, советом, поучает, «как должно поступать» (в подтексте: «будь таким, каким я тебя изобразил, чтобы быть достойным скипетра и оды»). Так что в этом случае референтная отсылка личной глагольной формы уже несколько «затемняется».
Если внутренний адресат стихотворения – друг, любимая и т. п., то референтная отнесенность существенно расширяется, поскольку читатель может ассоциировать этого персонажа со своим кругом близких людей: Прости, прости, Анюта, Уж скоро еду я… Позволь мне в утешенье Хоть песенкою сей Открыть мое мученье И скорбь души моей (И. А. Крылов «Мой отъезд (Песня)»).
До пределов обобщенно-личной семантики раздвигаются личные рамки, если высказывание адресуется не внутреннему, а внешнему адресату, то есть потенциальному читателю: Когда один вопрос в беседе сей наскучит, Разбор других по сем тебя подобно мучит. Желаешь ли себе спокойствие снискать? Так больше делать тщись ты, нежель вопрошать (И. А. Крылов).
Кроме того, часто в поэзии адресатом может оказаться не только человек, но и олицетворяемая в этом случае абстрактная сущность, природное явление, неодушевленный предмет, мифологический или библейский персонаж, Бог, так что лирическая адресация необычайно расширяется4 в сравнении, например, с устным диалогом: Бурливые ветры! молчите… (В. К. Тредиаковский); Творче, помощь крепка буди (А. Д. Кантемир). Обращение к музе, к уму, перу и чернильнице и т. п., очевидно, можно рассматривать как проявление автокоммуникации и «нейтрализации» значений 1-го и 2-го л. ед. ч. (см. подробнее: [6: 263]): Таковы слыша слова и примеры видя, Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя (А. Д. Кантемир Сатира I); О муза, к облакам взлетая, Представь их раздраженный вид! (М. В. Ломоносов «Ода… Елисавете Петровне…»).
Несмотря на то что фактически все высказывания такого рода, с неодушевленным или собирательно представляемым в контексте стихотворения субъектом либо адресатом, с трудом и большой натяжкой (разве что в силу того обстоятельства, что перед нами образная конкретизация) могут быть интерпретированы как определенно-личные, в синтаксическом поэтическом словаре за подобными предложениями все же был сохранен статус определенно-личных, однако условность этой квалификации подчеркнута знаком астериска («определенно-личные*»), указывающим на случаи «неопределенной определенности» (термин использован в работе: [14]) синтаксического лица.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историки русского синтаксиса отмечают, что определенно-личные предложения расширяли свое функционирование на протяжении XV–XVII веков во всех жанрах книжной письменности [13: 212–213], однако поэтическая речь XVIII столетия, как об этом свидетельствуют материалы синтаксического словаря, демонстрирует картину довольно скромной репрезентативности определенно-личных конструкций на фоне двусоставных:
– во-первых, определенно-личным предложениям, широко используемым в устной разговорной речи, свойственна стилистически сниженная коннотация, которая за ними в эволюции русского грамматического строя закреплялась постепенно; в поэзии XVIII века, в эпоху, когда ведущим жанром была высокая ода, сколько-нибудь широкого использования подобных конструкций авторы стремились избегать;
– во-вторых, постановка местоимения и выбор двусоставной структуры осуществлялись под воздействием латино-немецких книжно- письменных синтаксических образцов, на которые ориентировался Ломоносов и другие стихотворцы той эпохи;
– в-третьих, играл определенную роль и диктат версификационных требований: местоимение часто выступало как проклитика и способствовало распространению ломоносовского ямба, пришедшего в русской поэзии на смену силлабике Кантемира и хорею Тредиаковского.
Подводя итоги сказанному, отметим, что расширение границ референциальной основы, нейтрализация личных значений, переносные употребления определенно-личных форм в качестве «условно-личных», неопределенно- или обобщенно-личных могут быть признаны общепоэтической нормой уже на начальном этапе развития русской поэзии и только углубляются, расширяются в дальнейшем, поскольку продиктованы условиями самой лирической коммуникации: поэт говорит с Богом, природой, всем миром. При трансформации исходных значений и функций синтаксическая форма приобретает в художественном тексте новую, необычную для нее переносную семантику, не утрачивая в то же время и первичное назначение, что приводит к нарастанию стилистического и семантического «напряжения» и увеличению информативной емкости поэтического контекста.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Синтаксический словарь русской поэзии XIX века», № 17-04-00168.
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И едва до облаков,
Возлетев, паду слабея.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю : рай за их волнами,
И ношусь , крылатый вздох,
Меж землей и небесами…
Пью счастливо воздух тонкой…
ON THE BOUNDARIES OF THE “DEFINITE-PERSONAL ONE-MEMBER CONSTRUCTIONS” CONCEPT IN POETIC SPEECH
Список литературы К вопросу о границах понятия "определенно-личные односоставные конструкции" в поэтической речи
- Виноградов В.В. Стиль прозы Лермонтова//Виноградов В.В. Избранные труды: Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М.: Наука, 1990. С. 182-270.
- Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. Изд-е 2-е, перераб. и доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. 336 с.
- Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по русскому языку. М.: Высшая школа, 1995. 382 с.
- Ковтунова И.И. Асимметричный дуализм языкового знака в поэтической речи//Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1986. С. 87-108.
- Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М.: Наука, 1986. 208 с.
- Ковтунова И.И. Синтаксис поэтического текста//Поэтическая грамматика. Т. I/Институт русского языка им. B.В. Виноградова РАН. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2005. С. 239-297.
- Патроева Н.В. Синтаксис и архитектоника «Слова о полку Игореве» и его поэтических переложений XIX-XX веков. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 102 с.
- Перцов Н.В. О неоднозначности в поэтическом языке//Вопросы языкознания. 2000. № 3. С. 55-82.
- Ревзина О.Г. Загадки поэтического текста//Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. М.: Эдиториал УРСС, 2002. С. 418-433.
- Сильман Т. Заметки о лирике. Л.: Сов. писатель, 1977. 224 с.
- Скулачева Т.В., Буякова М. В. Стих и проза: сочинение и подчинение//Вопросы языкознания. 2010. № 2. C. 37-54.
- Современный русский литературный язык/Под ред. П.А. Леканта. М.: Аст-Пресс Книга, 2013. 766 с.
- Тарланов З.К. Университетский курс русского синтаксиса в научно-историческом освещении. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 480 с.
- Цивьян Т.В. Наблюдения над категорией определенности -неопределенности в поэтическом тексте//Категория определенности -неопределенности в славянских и балканских языках. М.: Наука, 1979. С. 348-363.
- Шапир М.И. Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов -Пушкин -Иосиф Бродский)//Вопросы языкознания. 2003. № 3. С. 31-78.
- Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против»: Сб. ст. М.: Прогресс, 1975. С. 193-230.