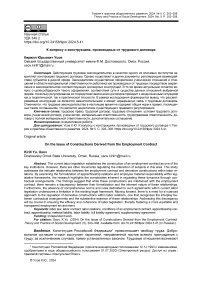К вопросу о конструкциях, производных от трудового договора
Автор: Усов К.Ю.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Действующее трудовое законодательство в качестве одного из ключевых институтов закрепляет конструкцию трудового договора. Однако существуют и другие документы, регулирующие взаимодействие субъектов в данной сфере. Законодателем осуществлено оформление ученических отношений и отношений в области материальной ответственности работника как производных от трудовых посредством закрепления в законодательстве соответствующих договорных конструкций. В то же время актуальным остается вопрос о целесообразности такого оформления, соответствия сути и существа данных отношений выбранной форме, поскольку регулирование их посредством заключения договоров приводит к неоднозначным ситуациям как в теоретической, так и практической плоскости. В рамках исследования формируется вывод, что рассматриваемые конструкции не являются самостоятельными и имеют неразрывную связь с трудовым договором. Отмечается, что трудовое законодательство в настоящее время не содержит общих норм и правил, посвященных таким соглашениям, что является недостатком существующего правового регулирования.
Трудовое право, трудовой договор, трудовые отношения, условия трудового договора, ученический договор, ученичество, материальная ответственность, трудоправовая ответственность, договор о полной материальной ответственности, дополнительное соглашение
Короткий адрес: https://sciup.org/149145472
IDR: 149145472 | УДК: 349.2 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.41
Текст научной статьи К вопросу о конструкциях, производных от трудового договора
Введение. Конституция Российской Федерации1 провозглашает свободу труда. Добровольное согласие сторон выступает гарантией, направленной против всякого принуждения к труду, за исключением случаев, прямо установленных законом. Трудовые отношения возникают как соглашение. Однако оно не единственное, которое может быть заключено в данной сфере. Трудовой кодекс устанавливает нормы, предусматривающие возможность согласования тех или иных аспектов трудовых и смежных отношений. Некоторые из них облачены в форму договоров – например, ученический договор, договор о полной материальной ответственности, вопрос о самостоятельности которых поднимается в настоящем исследовании. Между тем формирование таких отношений через призму договорной конструкции с теоретической стороны является неоднозначным решением, приводящим к практическим правоприменительным проблемам.
Несмотря на значительное число работ, посвященных определению статуса указанных документов, вопрос о правовой природе их в настоящее время остается неопределенным, что и обуславливает актуальность настоящего исследования.
Научная новизна результатов работы состоит в том, что сформулирован вывод о несамостоятельности обозначенных договорных конструкций и их зависимом от трудового договора положении, отмечена нецелесообразность использования на практике ученического договора и договора о материальной ответственности. Доказывается потребность в замене данных конструкций на иную форму.
Цель настоящей работы заключается в исследовании конструкций трудового права, производных от трудового договора, установление их действительной правовой природы, а также способа регулирования, отвечающего их существу.
Данная цель достигалась посредством разрешения следующих задач: определение существа договоров, установление проблем применения данных институтов права в практической плоскости, выявление наиболее оптимального и целесообразного способа регламентирования данных отношений.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в установлении того факта, что действительное существо рассматриваемых документов не имеет ничего общего с договорной конструкцией, в которую заключены отношения, производные от трудовых. Выявлена характеристика таких договоров – соглашение, производное от трудового договора, не обладающее самостоятельностью. Установлено, что несоответствие сущности отношений и договорной формы порождает правоприменительные проблемы, требующие разрешения в целях снятия существующей неопределенности.
Практическая значимость исследования проявляется в формулировке предложений о наиболее рациональном способе оформления ученических отношений и отношений, связанных с установлением полной материальной ответственности работника.
Методологической основой исследования стало использование научного анализа и синтеза, формально-логического, системно-структурного, технико-юридического, формально-юридического методов.
Основная часть . Согласно ст. 1 Трудового кодекса РФ (ТК РФ)1 отношения по подготовке и дополнительному профессиональному образованию являются непосредственно связанными с трудовыми отношениями. Наиболее подробно их регулирование изложено в гл. 32 ТК РФ, посвященной ученическому договору. Анализ ее положений привел некоторых исследователей к выводу о самостоятельности данного документа. Так, Д.И. Федотов указывает, что ученический договор является самостоятельным видом такого рода конструкций, поскольку предмет трудового и ученического договоров не совпадает, имеются расхождения в содержании, а также в основаниях возникновения отношений2.
Схожую позицию высказывает В.Г. Глебов, указывающий, что данный договор относится к самостоятельному виду договоров3.
На основе анализа трудового законодательства Республики Беларусь Н.Н. Маслакова также делает вывод, что ученический договор – это двухстороннее соглашение, являющееся самостоятельной конструкцией в трудовом праве и отличное от трудового договора (Маслакова, 2020: 111).
Обозначенный документ направлен на профессиональное обучение, его предмет не совпадает с трудовым договором, на что указывалось судами4. Однако различие в предмете, само по себе, не делает конструкцию договора самостоятельной. Признавая за ученическим договором самостоятельность, мы будем вынуждены идти дальше и утверждать, будто он в таком случае может существовать отдельно от трудового договора и не подразумевать его, что как раз в корне неверно.
Ученический договор в настоящем или будущем обязательно подразумевает трудовой договор. Последний выступает его основой в ситуации с работником организации, поскольку работодатель заинтересован в повышении квалификации и навыков своего сотрудника. Более того, ст. 198 ТК РФ указывает, что такой договор является дополнительным к трудовому, ясно показывая нам определяющую роль последнего. В ситуации, когда речь идет о лице, ищущем работу, исключив трудовой договор из внимания, мы тем самым лишаем ученические отношения трудоправовой составляющей, выводим соглашение из сферы трудового права и имеем дело, скорее, с гражданско-правовой сделкой, несмотря на то, что обучающийся принимает на себя обязанность вступить в трудовые отношения и отработать определенное время.
Редакция ст. 198 ТК РФ, действовавшая до Федерального закона от 30.06.2006 № 90–ФЗ1, указывала, что ученический договор с лицом, ищущим работу, является гражданско-правовым и регулируется соответствующим законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права. Впоследствии был сделал правильный вывод о том, что и в случае, когда человек уже трудится у данного работодателя и в том случае, когда он только собирается трудоустроиться, подобные отношения неразрывно связаны с трудовыми, а потому должны регулироваться нормами ТК РФ. После внесения изменений появилось указание, что ученический договор с работником организации является дополнительным к трудовому договору.
Редакция статьи, вступившая в силу с 02.10.2006 г., тем не менее, разделяла ученические договоры на профессиональное обучение, когда речь шла о лицах, ищущих работу, и на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы – в отношении работников организации. Но и это разделение, не имеющее юридического смысла, исчезло впоследствии. Была принята действующая в настоящее время формулировка, в рамках которой в обоих случаях речь идет об ученическом договоре.
Встречаются судебные акты, квалифицирующие такой договор как гражданско-правовую сделку. В одном из дел, рассмотренных в 2012 г. суд указал, что ученические правоотношения с лицом, ищущим работу, являются гражданско-правовыми2. В другом деле, рассмотренном в 2021 г., суд также исходил из того, что ученический договор с лицом, ищущим работу, имеет гражданско-правовую природу, тогда как договор на переобучение без отрыва от работы – дополнительный к трудовому, потому регламентируется трудовым законодательством3. Как можно видеть, в последнем случае суд фактически воспроизвёл редакцию закона, действовавшую до 30.06.2006 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ4 сославшись на позицию Конституционного Суда РФ5 и нормы ТК РФ, указала, что на лиц, заключивших ученический договор, распространяется трудовое законодательство. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что ученический договор не является трудовым или гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг6. Верховный Суд РФ пришел к выводу, что в данных ситуациях необходимо применять положения главы 32 ТК РФ7.
Различия в содержании договоров не свидетельствуют о самостоятельности такой конструкции, поскольку существенным в любом случае остается факт наличия в настоящем или будущем трудовых отношений. Само по себе сравнение ученического и трудового договоров представляется неверным, поскольку фактически происходит сравнение не самостоятельных договоров, как, например, при сравнении договоров купли-продажи и подряда, а договора и соглашения, связанного с ним. Точно также можно сравнивать трудовой договор с дополнительным соглашением о совмещении профессий (должностей), соглашением об изменении определенных сторонами условий трудового договора, о порядке использования работником личного имущества в интересах работодателя и иными. Во всех этих случаях сопоставляются не однопорядковые явления, не независимые друг от друга договорные конструкции, а основной договор и подчиненное ему соглашение.
Тот факт, что последнее именуется «договор», не дает оснований считать эту конструкцию самостоятельной: ученический договор заключается для трудовых отношений и только потому, что они есть или подразумеваются в будущем. Из существа документа усматривается производный характер ученических отношений, их несамостоятельность, и, как следствие, такая же несамостоятельность, производность ученического договора от трудового.
Следующая договорная конструкция, подлежащая рассмотрению в рамках нашего исследования, закреплена в гл. 39 ТК РФ. Договор о полной материальной ответственности существует в рамках института материальной ответственности, которая в свою очередь возникает в силу существования трудового правоотношения, на что обращают внимание А.М. Лушников, М.В. Лушни-кова1. Если материальная ответственность не существует без трудового отношения, то, следовательно, рассматриваемый конструкт находится в полной зависимости от трудового договора и связан с ним. Эта зависимость становится особенно заметна при рассмотрении взаимной судьбы трудового отношения и договора о полной материальной ответственности. Судебная практика исходит из того, что наличие отношений по материальной ответственности свидетельствует о возникновении трудовых отношений2. При этом прекращение их влечет за собой остановку действия договора о полной материальной ответственности3.
Договор есть взаимосвязь воль, их согласование, нашедшее свое выражение в достигнутом соглашении. В любом случае это определенная свобода выбора для лица, вступающего в отношения. Однако рассматриваемая конструкция, как верно отмечают И.Е. Веревкин и А.Ю. Гришанин, фактически не оставляет места свободе договора (Веревкин, Гришанин, 2019: 452).
Актуальная практика исходит из того, что в том случае, когда обслуживание товарно-материальных ценностей выступает основной трудовой функцией, о чем работнику было известно, а законодательство предусматривает возможность заключения с ним договора о полной материальной ответственности, работник не вправе отказаться от этого. Подобное действие будет расцениваться как нарушение. Следовательно, договорная свобода у работника здесь привязана к решению вопроса о вступлении или невступлении в трудовые отношения, то есть о заключении трудового договора. У работодателя она значительно шире. Заключение такого договора для него – право, которым можно не воспользоваться. Таким образом, с одной стороны, применительно к работнику мы имеем веление о заключении договора, а с другой – работодатель пользуется относительной свободой выбора.
В момент, когда работник принимает решение о трудоустройстве, до него доводится информация о том, что ввиду особенностей трудовой функции, а также в связи с включением должности в соответствуй перечень впоследствии или сразу с ним будет заключен договор о полной материальной ответственности. Фактически речь идет об условии трудового договора, о котором работник изначально осведомлен и на которое соглашается.
Для сравнения обратимся к соглашению о неполном рабочем дне. Закон содержит требование об указании конкретной продолжительности рабочего времени. Имеются исключения, при которых свобода согласования воль со стороны работодателя ограничена и касается некоторых категорий работников, имеющих право требовать установления неполного рабочего дня. Данная возможность остается для работника правом, а не обязанностью. Соглашение полностью производно от трудового договора и трудовых отношений и не является самостоятельной конструкцией. Как можно заметить, описание данного соглашения чрезвычайно схоже с признаками договора о полной материальной ответственности и ученического договора. Но при этом закон не называет соглашение об установлении неполного рабочего времени договором, поскольку это противоречило бы его действительной сущности.
Таким образом, все иные договорные конструкции в трудовом праве неразрывно связаны с трудовыми отношениями и трудовым договором, и более того, они не являются в строгом смысле этого слова договорами. Анализируя рассмотренные конструкции, А.Ю. Гришанин отмечает, что они также не являются договорами и в гражданско-правовом понимании (Гришанин, 2018: 157).
Итак, фактически исследуемые документы выступают производными от трудового договора конструкциями и ничем по своей природе не отличаются от соглашения о неполном рабочем времени или о совмещении профессий (должностей).
Построение правовых моделей ученических отношений и полной материальной ответственности на основе законодательного установления договорных конструкций не всегда однозначно воспринимается правоприменителями. Так, суды указывают, что условие о полной материальной ответственности, включенное в текст трудового договора, само по себе не влечет возникновения обязанности работника по возмещению в полном размере, поскольку таковая образуется только в случае заключения соответствующего договора о материальной ответственности1.
Сформировалась парадоксальная ситуация, при которой применение условия основного договора в сфере труда, не ухудшающего положения работника, поставлено в зависимость от наличия другого договора, по своей сути являющегося производным и зависимым от первого. Можно ли представить, что положение трудового договора о ненормированном рабочем дне поставлено в зависимость от заключения соглашения о ненормированном рабочем дне? Разумеется, нет. Однако применительно к полной материальной ответственности сложилась именно такая ситуация.
В рамках ученического договора также существуют практические проблемы, обусловленные этой специальной конструкцией. Описанное выше положение, рассмотренное в отношении договора о полной материальной ответственности, существует и при применении норм об ученическом договоре, однако ситуация диаметрально противоположная. Если имеется трудовой договор, содержащий условие о возмещении затрат, понесенных работодателем на обучение, заключать ученический договор необязательно, и то обстоятельство, что ученический договор не заключался, не может быть основанием для отказа в удовлетворении иска работодателя2. Можно ли говорить о самостоятельности договора, отсутствие которого целиком и полностью нивелируется условием иного документа? Сказанное еще раз подтверждает тезис о несамостоятельности ученического договора как правовой конструкции.
Данное обстоятельство также демонстрирует нам несовершенство законодательной техники, связанное с тем, что ТК РФ фактически предусматривает возможность фиксации ученических отношений в различных документах, поскольку ст. 198 ТК РФ закрепляет ученический договор, а ст. 248 ТК РФ указывает на трудовой договор и соглашение об обучении. Верховный Суд Российской Федерации в свою очередь отметил, что действующее регулирование допускает заключение не только ученического договора, но и иных соглашений об обучении3. Даже в тех случаях, когда стороны не оформили ученический договор, а изложили все положения об ученичестве в дополнительном соглашении, суд исследует его по правилам гл. 32 ТК РФ4. Соответственно, закон и практика не имеют определенности относительно оснований возникновения ученических отношений, что свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии должного порядка в правовой регламентации, а с другой, – об отсутствии необходимости в договорной конструкции для данных отношений.
Заключение . Существующая правовая конструкция, в которой изложены правила об ученичестве и полной материальной ответственности, вступает в противоречие с внутренней сущностью регулируемых правовых явлений, для разрешения которого необходимо привести в соответствие их форму и содержание. Следует преобразовать действующие положения об ученическом договоре и договоре о полной материальной ответственности в соглашения, производные от трудового договора. Общих правил регулирования для соглашений, производных от трудового договора, законом не предусматривается. Выделение таких положений, касающихся всех индивидуальных соглашений, производных от трудового договора, позволит устранить существующую бессистемность в их закреплении, придаст правовую определенность и согласованность нормам о них, что положительно скажется как на теории, так и на правоприменительной практике.
Список литературы К вопросу о конструкциях, производных от трудового договора
- Веревкин И.Е., Гришанин А.Ю. Иные договорные конструкции трудового права // Вопросы российской юстиции. 2019. № 1. C. 446-455. EDN: IJJYDT
- Гришанин А.Ю. Иные договорные конструкции трудового права // Актуальные вопросы публичного права: в 2 ч. Екатеринбург, 2018. Ч. 2. С. 153-159. EDN: DNTNBI
- Маслакова Н.Н. Учебно-трудовой (ученический) договор: к вопросу о правовой конструкции // Сацыяльна-эканамiчныя i прававыя даследаваннi. 2020. № 4 (62). С. 102-113. EDN: NNSMDI