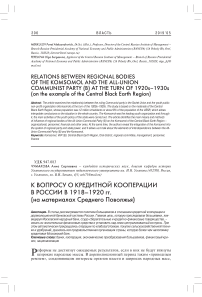К вопросу о кредитной кооперации в России в 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
Автор: Чумакова Анна Сергеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается политика большевиков в отношении кредитной кооперации и дореволюционной банковской системы России. Главная цель, которую преследовали большевики, ликвидируя Московский народный банк, ссудо-сберегательные и кредитно-финансовые товарищества, - изъять их значительные финансовые средства и установить над ними централизованный контроль. При этом автоматически прекращались операции по хлебозаготовкам, покупке сельскохозяйственной техники и удобрений, рушилась вся продовольственная организация страны, которую более чем наполовину кредитовал Московский банк.
Банки, кооперация, экономические преобразования большевиков, финансовый кризис, национализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170171011
IDR: 170171011 | УДК: 947.083 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6743
Текст научной статьи К вопросу о кредитной кооперации в России в 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
Реформы не достигнут ожидаемых результатов, если в них не будут втянуты широкие народные массы. В дореволюционный период таким «приводным ремнем», соединяющим интересы органов власти и широких народных масс, стали кооперативы, достигшие к 1917 г. впечатляющих успехов. На средства кооперативов осуществлялись хлебозаготовки, покупка сельскохозяйственной техники, удобрений, обучение новым методам ведения хозяйства.
Трагедия России начала ХХ в. во многом была обусловлена тем, что коммунистические власти прервали развитие кооперации по рыночному пути и приложили все силы к тому, чтобы превратить коллективные высокоэффективные кооперативные товарищества в разновидность государственных структур, в так называемые «отделы по распределению по карточкам» товаров первой необходимости среди населения, т.е. в придаток государственной машины.
Наиболее эффективно действующими и популярными среди крестьянства кооперативами были ссудо-сберегательные и кредитные товарищества. Они опирались на поддержку царского правительства, осуществляемую посредством Московского народного банка, основанного на кооперативные, народные деньги. Согласно статистическим данным, банк имел 300 млн руб. своего баланса, из них 225 млн шли кредитно-кооперативным организациям страны, что соответствовало примерно 55–57% всего продовольственного баланса страны1.
После прихода к власти партия большевиков, формируя свою кооперативную политику, четко понимала, что дореволюционные кооперативные союзы, многие ссудо-сберегательные и кредитно-финансовые товарищества сосредоточили в своих руках значительные финансовые средства, которые необходимо было срочно изъять, установив над ними централизованный контроль со стороны государственных органов. Для того чтобы заставить правления кредитнофинансовой кооперации выполнять указания властей, СНК принял декрет «О потребительской кооперации и кооперативных организациях»2. Согласно его требованим, все кредитные и ссудо-сберегательные кооперативы вынуждены были перевести все свои наличные и безналичные денежные средства и ценности в виде золотых и серебряных монет, ценных бумаг из ликвидируемых отделений коммерческих банков, отделений Государственного поземельного крестьянского банка, Дворянского банка в отделения Государственного банка – единственного оставшегося не закрытым.
Приводя в исполнение данный декрет, в 1918 г. советские власти национализировали Московский народный (кооперативный) банк. Это был серьезный удар по кооперации, т.к. Московский народный банк ни одной акции не размещал в частные руки, а свою помощь оказывал лишь трудовой кооперации и не выдавал кредиты товариществам, где по уставу предусматривался обязательно небольшой пай, боясь оказать помощь нетрудовым, так называемым лжекоопе-ративам [Мухамедов 2008].
Следует отметить следующие отрицательные последствия такой политики:
-
1) рухнул весь план снабжения населения минеральными удобрениями, средствами борьбы с вредителями и болезнями сельского хозяйства, т.к. они закупались на 95% при посредничестве Московского народного банка за границей на суммы до 15 млн руб.;
-
2) была полностью прекращена покупка листового и строевого железа для ремонта сельскохозяйственных машин и для строительства;
-
3) были полностью приостановлены операции союзов смолокуренных и лесорубочных артелей, возникших при непосредственном участии Банка;
-
4) совершенно остановились операции по экспорту, выполняемые посредством Банка.
Реакция общества была однозначно негативной. Так, на страницах журнала
«Союз потребителей» отмечено: «…потребительские общества, кустарные артели, сельскохозяйственные ссудо-сберегательные товарищества, отдельные крестьянские товарищества лишились необходимого им разумного кредита», «оторвать Народный банк от кооперации – это значит разорвать живое тело на части»1. И такое мнение не случайно, ведь именно на кооперативные средства приобреталась и перерабатывалась сельскохозяйственная продукция, осуществлялась торговля на селе, существовали сельхозпредприятия.
Кроме того, надо отметить, что большинство кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов имели одну или несколько лавок в селах. И в 1918 г. в рамках борьбы с дореволюционными, капиталистическими формами хозяйствования по стране прошла волна погромов капиталистической торговли. Так, в Симбирске члены правления Союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ и инспектор мелкого кредита Н.И. Алмазов, находящиеся во время погрома в помещении Союза, вынуждены были покинуть его ввиду угроз погромщиков применить по отношению к ним насилие2.
Власти, поняв, что через национализированные банки изъять средства у кооперации невозможно, решили действовать и другим способом – начали изымать в пользу «трудового народа» собственность уже кооперативных товариществ, принадлежащих самим крестьянам. Так, в губерниях Среднего Поволжья национализация кредитной и ссудо-сберегательной кооперации началась осенью 1918 г. в рамках организации «борьбы с кулачеством» и массовых заготовок продовольствия. Продолжалась эта разрушительная работа практически в течение 1919–1920 гг. В связи с тем, что подробных сведений об итогах национализации кредитных кооперативов в архивах не сохранилось, на основе отрывочных сведений постараемся воссоздать картину происшедшего.
Национализация крестьянских кооперативов проходила следующим образом. После того как советская власть по окончании большевизации сельских Советов укрепилась в сельской местности, в села, где находились правления кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, прибывали уполномоченные от лица так называемого Народного банка (Государственный банк в начале 1918 г. из идеологических соображений был переименован в Народный банк), а после его закрытия – от финансового отдела губисполкома и проводили перепись имущества.
В ходе национализации ликвидировались наиболее успешные кредитные и ссудо-сберегательные товарищества, признанные «эксплуататорскими» и «кулацкими», которые имели на своем балансе значительные средства и собственность. По подсчетам автора, в Симбирской губернии их число составило более 40%, а в соседней Самарской – более 60%3. При этом расчеты были произведены только с мелкими вкладчиками, преимущественно из числа бедных и средних крестьян.
При ликвидации кредитных товариществ, признанных «кулацкими», все балансы сводились в один общий. В ходе проведения национализации особое внимание обращалось на перенесенные средства, куда были отнесены: долги бывших правлений товариществ, счета на обустройство и обзаведение зданий, занимаемых правлениями, «сомнительные» долги, расходы, которые были определены как «подлежащие возврату». При этом в распоряжение местных органов власти взимался единовременный 5-процентный сбор4. Были ревизованы и кон- фискованы все товары и грузы, принадлежащие другим товариществам, даже если на это имелись подтверждающие документы, что сразу же обрушило весь товарный рынок, подорвало доверие к сохранившимся кредитным кооперативам со стороны их клиентов и партнеров. Кроме того, был составлен единый список текущих банковских счетов как физических, так и юридических лиц1.
Окончательно частные средства пайщиков ликвидированных кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов были изъяты советским государством в 1919 г. Фактически это была окончательная ликвидация лучших кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов Среднего Поволжья. В подтверждение этому достаточно привести некоторые статистические данные. К декабрю 1919 г. из 340 отделений Народного банка были ликвидированы 330. В оставшиеся отделения было переведено 12,7 млрд руб. банковских ценностей (94,1% бывшей суммы балансов частных банков в ценах 1913 г.). К началу 1920 г. из-за прогрессирующей инфляции эта сумма превратилась в совершенно ничтожную [Каценеленбаум 1927: 136].
По указанию центра роковым для кредитной кооперации шагом региональных властей стало аннулирование всех государственных ценных бумаг согласно распоряжению правления Народного банка № 4316 от 13 апреля 1918 г. Если взять за основу то, что свыше 37% всех финансовых средств кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов приходилось на ценные бумаги, можно представить себе, какие негативные последствия имел этот очередной финансовый удар по интересам пайщиков кредитных товариществ. В 1919–1920 гг. были аннулированы все гарантии и привилегии по государственным займам, все выигрышные билеты, прекращены все сделки с процентными бумагами, которые перестали приниматься под залог. При этом процентные облигации, имеющиеся на руках у частных лиц, запрещалось обменивать на казначейские билеты, кроме случаев крайней необходимости, рассматривающихся в персональном порядке. Не были аннулированы только некоторые ценные бумаги с краткосрочными обязательствами, но и они потеряли свою финансовую силу2.
Чтобы понять масштабы нанесенного кредитной кооперации ущерба, достаточно сказать, что большинство активов кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов составляли именно процентные ценные бумаги. Если взять Симбирское общество взаимного кредита, капиталы которого также были экспроприированы местными властями, то здесь можно увидеть, что из 1 599 362 руб. 1 130 519 руб. были в процентных бумагах3. Таким образом, мы видим, что государственные процентные бумаги составляли в товарищеском капитале весомый процент, и их аннулирование было ощутимым ударом по кредитно-кооперативной сфере.
Это отразилось на рядовых членах кредитно-кооперативных товариществ. Согласно требованиям декрета СНК от 21 января 1919 г., было запрещено выплачивать какие-либо деньги в счет погашения аннулированных процентных бумаг бывших частных предприятий и компаний. Исключение было сделано лишь немногочисленным держателям акций и других ценных бумаг из числа малоимущих пайщиков, при этом каждый случай такого обращения в органы государственной власти рассматривался строго в персональном порядке4.
Были и нелицеприятные моменты, характерные для деятельности кредитной кооперации в этот период. Ссудо-сберегательное товарищество Мулловской волости, видя, что возникли затруднения с заготовкой хлеба и что, продолжая ее, товарищество может понести убыток, нашли своеобразный выход из создавшегося положения. На общем собрании товарищество постановило произвести реквизицию спирта местного завода Марковой, продать его и поправить положение дел в товариществе. Для уплаты акцизного сбора и накладных расходов за каждое ведро спирта вносилось в кассу волостного земства по 3 руб. 10 коп. После этого настали времена поголовного пьянства, т.к. спирт разносился и продавался по крестьянским дворам. Немедленно в Мулловке появились скупщики с бочками и бутылками и скупали спирт по цене 300–400 руб. за ведро, который затем увозился в Мелекес и распродавался по всему уезду. Пили не только мужчины, женщины, но и дети1.
Чтобы успокоить пайщиков, власти издали директиву Народного банка № 55 от 22 мая 1919 г., которая разрешала принимать заявления об оплате взамен аннулированных процентных бумаг на сумму, не превышающую 10 тыс. руб., однако в условиях инфляции это уже не имело никакого смысла. При этом процесс был обставлен такой бюрократической волокитой, что мало кто данными указаниями воспользовался.
В отношении же сохранившихся кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов была проведена первоначально ревизия , в ходе которой большинство товаров, материальных ценностей, имеющихся на складах, и инвентаря, составлявших кооперативную собственность, было изъято. Например, в Пензенском обществе взаимного кредита, в наиболее крупных кредитных кооперативах прошла массовая конфискация вкладов граждан. Пайщиков и граждан, имевших средства на счетах кредитных кооперативов, вызывали, при них вскрывали сейфы с имуществом и драгоценностями, отданными на хранение, и почти все изымали в счет уплаты контрибуций и «чрезвычайного революционного налога»2. Все это сопровождалось увольнением огромного числа высококвалифицированных кооперативных служащих.
После национализации и разгрома наиболее мощных, хозяйственно эффективных кредитных и ссудо-сберегательных кооперативов началась кампания по реорганизации сохранившихся товариществ. Была провозглашена «коренная ломка капиталистических производственных отношений» в кооперации, продекларировано «изменение постановки всего дела аграрного кредитования», а финансовая и кредитная деятельность дореволюционных ссудо-сберегательных и кредитных товариществ была объявлена «буржуазной», подлежащей разрушению.
Началось внедрение новых, «социалистических» принципов в кредитнофинансовой деятельности сохранившихся товариществ. Так, необходимо было у оставшихся ссудо-сберегательных и кредитных кооперативов «выбить» остатки финансовой независимости от государства, т.к. у многих средневолжских кредитных товариществ деньги хранились в Московском народном банке. 2 декабря 1918 г. декретом СНК Московский народный (кооперативный) банк был национализирован и слит с Народным (государственным) банком РСФСР, а все его средства изъяты в пользу государства. Вместо него все функции централизованного (бюджетного) кредитования и безвозмездной поддержки кооперации перешли к кооперативной секции ВСНХ, которая не располагала и малой частью средств, имевшихся в распоряжении Московского народного банка3.
Массированные чистки кооперации продолжились и в 1920 г. В Симбирской губернии в это время из числа правления немногих оставшихся кооперативов были изгнаны все члены дореволюционных акционерных предприятий, бывшие владельцы хоть какой-то частной собственности, собственники земельных участков, размеры которых до революции превышали 50 десятин, а также те лица, которые до 1917 г. имели капитал, превышающий 10 тыс. руб.1 «Военнокоммунистическую» тенденцию в кооперативном движении отражает также декрет Совнаркома от 16 марта 1919 г., согласно которому в потребительские кооперативы было обязано вступить все взрослое население2.
Таким образом, финансовая политика советской власти, проводимая в отношении кредитной и ссудо-сберегательной кооперации, привела к изъятию капиталов и сбережений у тысяч пайщиков, невосполнимые потери понесли не только крупные, но и мелкие и средние держатели средств на кооперативных счетах, которые были главными инвесторами деятельности кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. Непродуманные, поспешные преобразования в кооперативной сфере, проведенные в 1918–1920-х гг., выразились в полном разрушении всей дореволюционной кредитно-финансовой сферы, ссудосберегательного и кредитно-кооперативного движения, подорвали их основы, которые мы пытаемся восстановить сегодня.
Список литературы К вопросу о кредитной кооперации в России в 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
- Каценеленбаум З.С. 1927. Кредитная система СССРифинансирование народного хозяйства (1917-1927 гг.) - Вестник финансов. № 11. С. 133-138
- Мухаммедов Р.А. 2008. Кредитная и ссудо-сберегательная кооперация Среднего Поволжья в период проведения политики "военного коммунизма" (1918-1920 гг.) - Ученые записки Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. Т. 150. Кн. 1. С. 140-147.