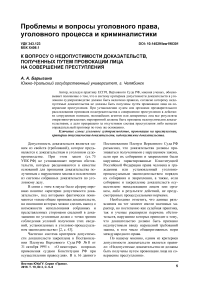К вопросу о недопустимости доказательств, полученных путем провокации лица на совершение преступления
Автор: Барыгина Александра Анатольевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 3 т.19, 2019 года.
Бесплатный доступ
Автор, исследуя практику ЕСПЧ, Верховного Суда РФ, мнения ученых, обосновывает положение о том, что в систему критериев допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве должно быть включено правило, согласно которому недопустимые доказательства не должны быть получены путем провокации лица на совершение преступления. При установлении судом или органами предварительного расследования признаков подстрекательства к совершению преступления в действиях сотрудников полиции, полицейских агентов или доверенных лиц все результаты оперативно-розыскных мероприятий должны быть признаны недопустимыми доказательствами, а дело прекращено за отсутствием состава преступления либо вынесен оправдательный приговор по тому же основанию.
Уголовное судопроизводство, провокация на преступление, критерии допустимости доказательств, недопустимые доказательства
Короткий адрес: https://sciup.org/147231476
IDR: 147231476 | УДК: 343.123 | DOI: 10.14529/law190301
Текст научной статьи К вопросу о недопустимости доказательств, полученных путем провокации лица на совершение преступления
Допустимость доказательств является одним из свойств (требований), которое предъявляется к доказательствам в уголовном судопроизводстве. При этом закон (ст. 75 УПК РФ) не устанавливает перечня обстоятельств, которые расцениваются в качестве оснований для признания доказательства полученным с нарушением закона и исключения из системы собранных доказательств по уголовному делу.
В связи с этим в науке было сформулировано понятие «критерии допустимости доказательств», под которыми фактически понимаются «такие общие признаки доказательств, на основании которых можно сделать вывод о возможности использования собранных и представленных сторонами сведений в доказывании по уголовным делам с точки зрения соблюдения условий получения этих сведений, установленных в уголовно-процессуальном законодательстве» [2, c. 43].
Частично система критериев допустимости доказательств закреплена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». В п. 16 данного
Постановления Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный уголовнопроцессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом, либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
Необходимо отметить, что данные разъяснения на тот момент имели значимых характер, но постепенно как судебная практика, так и ученые расширили перечень обстоятельств, нарушение которых приводит к тому, что доказательство должно быть признано недопустимым ввиду нарушений требований закона, в том числе общепризнанных норм международного права.
По нашему мнению, одним из критериев допустимости доказательств является правило: «Недопустимые доказательства не должны быть получены путем провокации лица на совершение преступления».
Статья 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (1950 г.) гарантирует право на справедливое судебное разбирательство. В первую очередь данный принцип закрепляет именно судебную защиту прав граждан, но здесь следует отметить, что данное право было бы эфемерным, если досудебные процедуры проведения оперативнорозыскных мероприятий, проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования не носили бы законный и обоснованный характер. Поэтому, гарантируя справедливость судебного разбирательства, данный принцип распространяется и на досудебное производство по уголовному делу с целью достижения объективности и беспристрастности уголовной процедуры разбирательства в целом.
В деле «Тейшейра де Кастро против Португалии» (1998 г.) в практике Европейского Суда впервые возник вопрос о провокации лица на совершение преступления. Необходимо отметить, что Европейский Суд допускает действия сотрудников полиции «под прикрытием», однако в судебном решении было отмечено, что в этом случае сторона обвинения обязана доказать, что преступная деятельность осуществлялась и до работы агентов полиции, и инициатива в совершении противозаконных действий не исходила от сотрудников (агентов) полиции.
Одно из первых судебных разбирательств в Европейском Суде о наличии провокации на преступления в действиях правоохранительных органов в Российской Федерации было Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации». Ваньян 2 апреля 1999 г. был признан Люблинским районным судом г. Москвы виновным, inter alia, в приобретении и сбыте О.З. героина. Вышестоящие судебные инстанции приговор оставили без изменения. Рассматривая жалобу заявителя, Европейский Суд отметил, что «если преступление было предположительно спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что оно было бы совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не являются деятельностью тайного агента и представляют собой подстрекательство к совершению преступления» (Постановление ЕСПЧ от 15 декабря 2005 г. «Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации» (жалоба № 53203/99)).
Европейский Суд в своих решениях неоднократно отмечал, что в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел, в которых установлено участие полицейских агентов «под прикрытием», государственные органы должны проверить факты наличия предварительной информации о наличии умысла у обвиняемого на совершение преступления, что являлось веским основанием к проведению операции в ходе оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, в некоторых решениях Европейский Суд подчеркивал, что предварительная информация должна быть не по факту наличия преступлений деятельности, а по факту совершения преступной деятельности конкретным лицом.
Так, Европейский Суд, рассмотрев жалобу заявителя Н. П. Нефедова, осужденного приговором Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 29 мая 2009 г. совместно с А. Н. Солдатовым и Н. В. Смирновой за покушение на получение взятки, установил незаконность проведения оперативного эксперимента. Как следует из материалов дела, Нефедов, Солдатов и Смирнова оформили справку о результатах химико-токсикологических исследований биологических объектов с подложными данными о наличии в крови Е. (доверенного лица полиции) допустимой для управления транспортным средством нормы алкоголя. При этом в ходе рассмотрения уголовного дела в первой и последующих судебных инстанциях Нефедов обращался с неоднократными заявлениями о наличии подстрекательства на совершение преступления доверенного лица Е.
Европейский Суд в своем постановлении отметил, что в деле Н. П. Нефедова против Российской Федерации подозрения в отношении заявителя были необоснованными. В сущности, сотрудники полиции провели оперативное мероприятие в «подозрительном месте», планируя уличить взяточников наугад и не имея целью уличить именно заявителя.
Процедура санкционирования оперативного мероприятия не была прозрачной и предсказуемой, а независимый надзор не осуществлялся. Фактическая ответственность за принятие решения о проведении «оперативного эксперимента» и способе его проведения отсутствовала, поскольку он проходил лишь под контролем того же сотрудника полиции, который в конечном итоге дал ули- чающие свидетельские показания в суде. Отвечая на вопрос прокурора в суде, Е. заявил, что оперативное мероприятие не было направлено против конкретного лица и что они пришли на прием к заявителю только потому, что день проведения оперативного мероприятия приходился на день его дежурства. Кроме того, Европейский Суд в своем решении указал, что изученная аудиозапись проведения оперативного эксперимента показывает, что инициатива выдачи справки с ложными сведениями исходила от доверенного лица полиции, доверенное лицо само назвало сумму взятки, секретный агент полиции пытался неоднократно убедить Никифорова помочь ему и оказывал не него психологическое давление (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 июня 2015 г. № 46-П15).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно деятельность Европейского Суда по правам человека обратила внимание судов Российской Федерации на необходимость рассматривать в ходе судебного разбирательства заявления о провокации на совершение преступления, проводить по ним проверку доказательств и в случаях установления фактов незаконности и необоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий признавать их результаты недопустимыми доказательствами.
Следует отметить, что в отечественной литературе исследованием данных вопросов после принятия приведенных выше решений Европейским Судом занимались некоторые ученые. Однако их выводы не являются однозначными по вопросам признания доказательств недопустимыми. В частности Б. Гаврилова, С. Боженка [3, с. 46], А. Савин-ский и В. Бакун [5, с. 49] полагают, что провокация или подстрекательство к совершению преступления не могут быть применены в качестве метода борьбы с преступностью, а любые действия, на этом основанные, должны быть признаны неправомерными.
Иной позиции придерживаются Н. Егорова [4, с. 28], А. С. Александров и Д. С. Кучерук [1, с. 36], указывая на то, что угроза преступной деятельности при невозможности ее выявления и пресечения другими способами, «является оправданием оперативного эксперимента, в ходе которого лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, выполняет функцию «подстрекателя». Кроме того, они полагали, что ученые «сделали по- спешные выводы из некоторых решений ЕСПЧ. Позиция, при которой полностью исключается активное поведение сотрудников, проводящих ОРМ, спорная.
Безусловно, практика Европейского Суда по правам человека оказывает прямое влияние на правоприменительную практику судов Российской Федерации. При установлении факта провокации на совершенное преступление в решении Европейского Суда по конкретному делу председатель Верховного Суда РФ обязан обратиться с представлением о возбуждении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. И, как показывает анализ практики Верховного Суда РФ и нижестоящих судов, приговоры и все последующие судебные решения по таким делам обменяются, дела направляются на повторное рассмотрение или прекращаются по реабилитирующим основаниям. Например, был отменен Верховным Судом РФ в связи с принятием Постановления Европейским Судам приговор Зареченского городского суда Пензенской области в отношении А. В. Носко от 26 мая 2008 г., которым заявительница была признана виновной в получении взятки за незаконную выдачу листка временной нетрудоспособности. Оперативный эксперимент был проведен только лишь на основании анонимного сообщения о совершаемой Носко преступной деятельности без проверки данных сведений и без установления дополнительных фактов, которые, по мнению Европейского Суда, были необходимым условием проведения законного оперативного эксперимента (Постановление Верховного Суда РФ от 15 апреля 2015 г. № 22-П15).
Не смотря на очень разное отношение к вопросу о возможности использовать в доказывании результаты ОРМ, в которых были задействованы сотрудники полиции и их доверенные лица, нельзя не согласиться, что в международной правовой доктрине, а также в практике российских судов успешно применяется положение, в соответствии с которым необоснованное проведение оперативнорозыскных мероприятий, в том числе в связи с фактами подстрекательства на совершение преступления, должно приводить к признанию доказательств недопустимыми.
Так, Верховный Суд РФ отменил приговор Советского районного суда г. Казани от 1 августа 2012 г. и все последующие судебные решения, производство по делу в отношении
И. М. Мустафина прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления, указав следующее: «Из данного уголовного дела усматривается, что доказательств, свидетельствующих о том, что И. М. Мустафин совершил бы преступление без вмешательства сотрудников правоохранительных органов и Ф., не имелось. В рассекреченных материалах оперативно-розыскной деятельности имеется заявление Ф., написанное лишь 25 августа 2011 г., о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности И. М. Мустафина, который требовал <...> рублей за выдачу справки о том, что она выращивает фрукты и овощи в СНТ <...>.
Однако из представленных суду доказательств следует, что фактически оперативнорозыскные мероприятия в отношении И. М. Мустафина были начаты 19 августа 2011 г. с участием оперуполномоченного Ф., а затем продолжены 20 и 25 августа 2011 г. с участием Ф., действовавшей по просьбе самих оперативных сотрудников, то есть до появления процессуального основания.
Судом также не выяснено, из каких источников была получена оперативная информация сотрудниками полиции о том, что И. М. Мустафин за выдачу различных официальных справок с реквизитами садового некоммерческого товарищества <...> незаконно требует с граждан денежное вознаграждение. В материалах уголовного дела информация, подтверждающая данные сведения, отсутствует, суду органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, она не была представлена.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия сотрудников полиции по данному уголовному делу были совершены в нарушение требований ст. 5 Феде- рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и были направлены на склонение И. М. Мустафина к получению незаконного вознаграждения при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел у И. М. Мустафина на получение незаконного вознаграждения не возник бы и инкриминируемое ему деяние не было бы совершено» (Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2013 г. № 11-Д13-33).
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в систему критериев допустимости доказательств входит правило о недопустимости использования в доказывании по уголовным делам материалов оперативно-розыскной деятельности, полученных путем совершения провокации на совершения преступления .
Список литературы К вопросу о недопустимости доказательств, полученных путем провокации лица на совершение преступления
- Александров, А. С. Результаты ОРМ - база приговора? / А. С. Александров, Д. С. Кучерук // Российский следователь. - 2012. - № 4. - С. 32-36.
- Барыгина, А. А. Критерии допустимости доказательств в уголовном процессе: монография / А. А. Барыгина. - М.: Юрлитинформ, 2016. - 192 с.
- Гаврилов, Б. К вопросу о провокации преступлений (с учетом решений Европейского Суда по правам человека) / Б. Гаврилов, С. Боженок // Российская юстиция. - 2006. - № 5. - С. 45-47.
- Егорова, Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа / Н. Егорова // Российская юстиция. - 1997. - № 8. - С. 27-28.
- Савинский, А. Разграничение оперативного эксперимента и провокации взятки / А. Савицкий, В. Бакун // Законность. - 2010. - № 7. - С. 46-49.