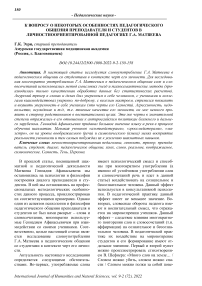К вопросу о некоторых особенностях педагогического общения преподавателя и студентов в личностноориентированной педагогике Г.А. Матвеева
Автор: Эзри Г.К.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 9-2 (72), 2022 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье исследуется словоупотребление Г.А. Матвеева в педагогическом общении со студентами в контексте черт его личности. Для исследования многократно употребляемых Г.А. Матвеевым в педагогическом общении слов и словосочетаний использовались метод смысловых гнезд и психосемантические методы (производилась только качественная обработка данных без статистических расчетов). Амурский тренер в словах и делах был уверенным в себе человеком, с учениками и коллегами взаимодействовал уверенно, по-доброму, с веселым настроем, стремился похвалить и внушить уверенность в себе ученикам (это черты его Самости). Агрессивность, недовольство, осуждение и т.д., т.е. теневые качества его личности, он мог немного проявить в сторону родственников в воспитательных целях. Эти же черты в значительной степени отражались в его отношении к антироссийским политикам ближнего и дальнего зарубежья. Геннадий Афанасьевич придавал большое значение языку и речи в процессе обучения шахматам. Называя учеников «альтмейстерами», «гроссмейстерами», «маэстро», он на уровне воображаемого (речи) и символического (языка) менял восприятие реальности учениками и тем самым побуждал их к усилению шахматных навыков.
Личностно-ориентированная педагогика, личность, тренер, преподаватель, студент, диалог, педагогическое общение, язык, слово, реальное, воображаемое, символическое, самость, тень, персона
Короткий адрес: https://sciup.org/170195625
IDR: 170195625 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-9-2-150-158
Текст научной статьи К вопросу о некоторых особенностях педагогического общения преподавателя и студентов в личностноориентированной педагогике Г.А. Матвеева
В прошлой статье, посвященной шахматной и педагогической деятельности Матвеева Геннадия Афанасьевича мы остановились на психологии и философии построения диалога преподавателя и студентов. В ней мы остановились на профессиональных методологических особенностях данного процесса, проиллюстрировав их соответствующими примерами. Однако один из аспектов психологии и философии педагогического общения преподавателя и студентов не был нами раскрыт - слова и словосочетания, многократно используемые Геннадием Афанасьевичем при взаимодействии со своими учениками. Соответственно, целью настоящей статьи является исследование словоупотребления Г.А. Матвеева в педагогическом общении со студентами в контексте черт его личности.
Актуальность настоящего исследования определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, употребляемые слова имеют психологический смысл и способны при многократном употреблении (а именно об устойчивом употреблении слов и словосочетаний речь и идет в данной статье) воздействовать на сознательное и бессознательное человека. Данный эффект используется в консультативной психологии. В педагогической практике данный эффект имеет не меньшее значение. Во-вторых, словесные обороты педагога имеют и воспитательный смысл, что отражается на мировоззрении учеников. Данный эффект - следствие влияния многократного повторения слов и словосочетаний (т.н. аффирмации) на сознательное и бессознательное человека. В педагогической практике их воздействие на мировоззрение студентов и его формирование имеют отдельное значение. Первый и второй пункт можно проиллюстрировать стихотворением В. Шефнера: «Много слов на земле... / Словом можно убить, словом можно спасти / Словом можно полки за собой пове- сти. / Словом можно продать, и предать, и купить, / Слово можно в разящий свинец перелить» [1]. И, наконец, в-третьих, слова являются частью языка, который формирует структуру сознания и бессознательного личности, нюансы ее мировоззрения. Данное обстоятельство показывает не только психологическую и педагогическую актуальность исследования, но и общефилософскую.
В данной статье слова и словосочетания, многократно употребляемые Геннадием Афанасьевичем в тренерской практике, мы рассмотрим с трех точек зрения. Первая - проявление психологии Геннадия Афанасьевича в используемых им словах и фразах. Для такого анализа будем использовать метод смысловых гнезд, применяемый в аналитической психологии для анализа результатов ассоциативного теста, а также психосемантические методы, позволяющие глубоко и детально исследовать содержание субъективной картины миры индивида. Оговоримся, что производить статистические расчеты, как это предполагается в психологии, мы не будем, потому что на основе наших воспоминаний и воспоминаний других учеников Геннадия Афанасьевича невозможно статистически достоверно и точно определить частоту употребления Г.А. Матвеевым слов и словосочетаний, можно выявить лишь наиболее употребляемые слова и словосочетания. Расчет через анкетирование и ранжирование списков скорее частично покажет влияние Геннадия Афанасьевича на мировоззрение его учеников, а данная проблематика не является предметом настоящего исследования, ведь предмет нашего исследования (в широком смысле) - личность, жизнь и творчество Матвеева Геннадия Афанасьевича. Вторая - психологический и воспитательный смысл слов тренера. Третья - общефилософский смысл и профессиональный смысл, используемых Геннадием Афанасьевичем слов и словосочетаний. В данном случае нас будет интересовать мировоззрение Геннадия Афанасьевича как специалиста и, частично, как человека.
Слова и словосочетания, многократно использовавшиеся Геннадием Афанасьевичем
Геннадий Афанасьевич демонстрировал в словах свою уверенность в себе.
Самыми демонстративными в данном случае являются утверждение «От хода должно веять силой и бодростью!»; призыв-восклицание перед важным ходом в тренировочной партии или анализе партии «Вперед, братцы кролики!»; а также хитрый вопрос с явным пониманием следующего хода «Что делать бедному крестьянину?!». Такие высказывания давали всем понять, что Геннадий Афанасьевич точно знает, что делать дальше в той или иной позиции, а также, что он качественно объяснит план дальнейших шахматных действий. И действительно такие высказывания сопровождались «сильными» ходами, по-тренерски профессиональными объяснениями.
В сомнительных и неясных положениях в партии Г.А. Матвеев предлагал «Ловить рыбку в мутной воде», т.е. запутывать позицию сильными ходами, чтобы позиция была не вполне ясна сопернику и он был вынужден прояснить ее невыгодным для себя образом. Трюки по запутыванию позиции и отвлечению внимания противника от основного плана всегда хорошо удавались тренеру. Он всегда настаивал, что необходимо играть на всей доске, а не только на участке непосредственной реализации плана игры. Также он мог употребить выражение «Интересненько! Ясно, что дело темненькое!». В данном случае он подразумевал либо неясное положение на доске, либо неприятный исход для соперника.
Если Геннадий Афанасьевич комментировал явно проигранную партию или давал советы (с некоторой долей юмора) по поведению в явно проигранной ситуации, то говорил, что «надо проверить документы» (необходимо поставить все возможные ловушки и максимально запутать позицию). Но при этом «не надо предоставлять сопернику такого удовольствия как поставить тебе мат» (необходимо сдаться в очевидно проигранной позиции после «проверки документов»). Уверенность в себе и стремление к победе сочетались у Геннадия Афанасьевича с уважением к сопернику, который тоже должен был проявлять уважение, и желанием не доводить партию до мата своему королю. Для Геннадия Афанасьевича сдача представлялась более почетной, чем прямое объявление мата его королю.
Позиции, в которых выигрыш мог быть достигнуть быстро и четко, он мог прокомментировать «Не долго дергалась старушка в злодея опытных руках». Естественно, в шутку; при этом у него было довольно веселое и игривое настроение.
А если в позиции достигался разгром соперника, либо хотя бы выигрыш ферзя и хотя бы одной легкой фигуры противника, Геннадий Афанасьевич сопоставлял такой успех с пленением вражеского немецко-фашастского фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы. Амурский тренер, когда приводил исторические примеры о ВОВ, всегда подчеркивал подвиг советского народа в Победе над нацисткой Германией, сожалел о больших потерях в войне. Даже через шахматы Матвеев Геннадий Афанасьевич вел патриотические воспитание своих учеников!
Итак, высказывания амурского тренера подтверждают наличие у него уверенности в себе и его боевой патриотический настрой, который он использовал как для патриотического воспитания учеников, так и при обучении их игре в шахматы и непосредственно в своих шахматных партиях. Также можно говорить, что его уверенность в себе дополнялась добротой и веселостью.
Г.А. Матвеев стремился похвалить и внушить уверенность в себе ученикам.
Вне зависимости от качества игры Геннадий Афанасьевич называл своих учеников «маэстро» (первый в истории шахматный титул, означавший профессионального шахматиста – мастера в противоположность любителю) и «гроссмейстер» (немецкоязычный вариант английского «Grand master» – современного официального высшего титула). Такие характеристики Геннадий Афанасьевич произносил с добротой и уверенностью, но в зависимости от качества игры в голосе звучали одобрительные или неодобрительные нотки; во всех случаях ему было весело.
Производными от данных слов можно считать «альтмейстер» и выражения типа «гроссмейстерское движение ладьей». Во втором случае мог быть одобрительный или неодобрительный контекст. Термин «альтмейстер» он употреблял как относительный и сравнительный для начинающих шахматистов. Он говорил, что победитель относительно побежденного является альтмейстером.
Для успокоения разволновавшихся или не могущих найти верный ход в позиции юных шахматистов от Геннадия Афанасьевича звучало «Тихо, дети, все уедим!». Звучало забавно.
Для поддержания боевого шахматного, спортивного духа своих учеников амурский тренер мог также применять и описанные выше выражения – «От хода должно веять силой и бодростью!», «Ловить рыбку в мутной воде», «Вперед, братцы кролики!», «Проверить документы», «Не надо предоставлять сопернику такого удовольствия как поставить тебе мат» – поэтому они не нуждаются в комментариях.
Итак, Геннадий Афанасьевич для формирования и поддержания уверенности в себе у учеников делал две вещи. Во-первых, называл их «маэстро», «гроссмейстер», «альтмейстер» (во втором и третьем случаях вне зависимости от качества игры – отличался эмоциональный контекст), чтобы они привыкли относиться к себе как к сильным шахматистам и имели бессознательную мотивацию дотянуться до этого уровня. Во-вторых, демонстрировал ученикам свою уверенность в словах, эмоциях и действиях, сообщал свои шахматные принципы, тем самым показывая, что его уверенность частично находится в этих принципах.
Ошибки учеников Матвеев Геннадий Афанасьевич стремился перевести в шутку.
В данном случае можно упомянуть разобранные выше термины «маэстро» и «гроссмейстер», который амурский тренер мог применять по-доброму в шутку к ученикам, которые слабо играли, тем самым показывая их низкий уровень игры, но не ругая и не обижая их. С таким же веселым и добрым настроением он мог сказать «Ну началось в колхозе утро!», подразумевая, что ученик предложил плохое продолжение в предложенной позиции.
Пожалуй, практически единственное выражение, которое Геннадий Афанасьевич произносил с явным недовольством, было «У вас шелуха в голове!». Оно означало, что ученики отвлекаются от шахмат на тренировке и думают о чем-то не вполне серьезном. Г.А. Матвееву не нравилось, когда ученики пропускали занятия, нарушали дисциплину на тренировке, были невнимательны при анализе позиций. Был у контекста произнесения данного выражения один нюанс, который мы подробнее обсудим ниже при различении Самости\Тени и Персоны в структуре личности Геннадия Афанасьевича.
Итак, Геннадий Афанасьевич критиковал низкое качество игры своих учеников с помощью юмора, переводил ошибки в шутку. В этом смысле ни для кого тягостной тренерская критика не была.
Через юмор Геннадий Афанасьевич стремился показать как надо играть, а как лучше не надо.
Термин «пижон» амурский тренер применял, чтобы охарактеризовать человека, который делает только пугающие соперника и в целом бесперспективные ходы, которые едва могут создать мало-мальски угрозу сопернику. «Стрелок-автоматчик» -тот, кто стратегию шахмат не понимает и рассчитывает только на тактику и ошибки соперника. В лицо Геннадий Афанасьевич шахматистам таких слов не говорил, за исключением редких случаев, когда явно критиковал одного из своих учеников. Обычно так он именовал шахматистов-ветеранов (пенсионеров) и учеников другого тренера. С помощью данных слов Г.А. Матвеев стремился высмеять неверные принципы игры и показать слабые места в игре соперников.
Интересовала Геннадия Афанасьевича способность своих учеников анализировать сложные варианты в голове. Для этого он противопоставлял «игру руками» (перебор вариантов руками на доске) и иг- ру головой (анализ позиции в голове -путь сильных шахматистов).
Итак, амурский тренер с помощью юмора показывал как лучше играть в шахматы - плохие варианты он высмеивал, что, естественно, формировало у его учеников убеждение, что они знают как правильно играть - оставалось решить вопрос как полученные знания применить на практике и приумножить.
Сравнение с употреблением словосочетаний другим амурским шахматистом-ветераном (пенсионером). Оставим его анонимным, чтобы исследование было этичным - приводимые здесь высказывания он произносил (скорее бормотал себе под нос) во время блиц-партий, которые мы играли с ним, поэтому в данном случае речь идет об использовании материалов личной беседы, которая происходила прилюдно. Исследуются выражения, произнесенные им в 2016-2017 годах.
Выражения следующие: «Как быть, чтобы не завыть?», «Куда пойти учиться?», «И так плохо, и так плохо», «А больно не будет?», после перерыва в несколько недель - «Да ты наверное где-то тренировался?!». Они выдают отсутствие уверенности и сомнения по поводу положительного результата партии; эмоциональный окрас при его произнесении данных словосочетаний подтверждает такую оценку. Однако было и выражение, указывающее и на наличие некоторой уверенности в своих силах. Процитировать буквально данное выражение в научной статье не представляется возможным по причине непечатного жанра употребляемой лексики. Смысл выражения сводился к его уверенности, что он способен играть в шахматы как молодой. Если характеризовать качество игры данного шахматиста, то поводов для уверенности не так много - он способен догадаться порой до относительно неплохого хода, но техника его игры представляется слабой.
Таким образом, Геннадий Афанасьевич через многократно употребляемые им слова и словосочетания показал себя уверенным, добрым, веселым человеком, который строит отношения с учениками с помощью данных своих качеств, а не с пози- ции психологического давления и требований. Если сравнить выражения Геннадия Афанасьевича с выражениями другого шахматиста, то психологически и профессионально он был гораздо выше многих других амурских шахматистов. Учитывая все выше сказанное, посыл, который вкладывал Г.А. Матвеев в многократно употребляемые им слова и выражения, может служить для всех учеников-шахматистов примером и образцом того, как надо подходить к формированию своей шахматной идентичности.
Самость/Тень и Персона в структуре личности Г.А. Матвеева: амурский тренер как человек и профессионал
Исследование многократно употребляемых Геннадием Афанасьевичем слов и сочетаний будет неполным без попытки исследования его личности. В качества образца структуры личности примем модель человеческой личности К.Г. Юнга. Так как нас интересует амурский тренер как человек и профессионал, то из всего многообразия структур личности К.Г. Юнга выберем Самость вместе с Тенью (характеристика черт глубинных черт личности Геннадия Афанасьевича как человека) и Персона (характеристика черт личности амурского тренера как профессионального тренера и шахматиста).
Несколько слов о структурных элементах личности по К.Г. Юнгу и их взаимосвязи. Немецкий мыслитель выделял в качестве частей личности коллективное бессознательное (источник психической энергии, здесь пребывает большая часть архетипов), индивидуальное бессознательное (здесь существуют архетипы Самость, Тень, Анима/Анимус) и сознательное (архетипы Эго и Персона точно описывают его суть). Эго и Самость связаны между собой: Эго формируется из Самости в процессе индивидуации. Самость является как символом целостности личности, так и неосознаваемой индивидуальностью человека. В свою очередь Эго представляет осознанные элементы человеческой индивидуальности. Тень определяется как совокупность скрытых желаний, чувств, эмоций и т.д., которые не осознаются в силу того, что они рассматриваются как не- допустимые. Анима – «женская» часть мужского бессознательного, Анимус – «мужская» часть женского бессознательного. Персона – образ мыслей, поведения, чувствования, эмоционирования, который человек являет окружающим, социальная роль, которую играет человек [2-5].
Вернемся снова к многократно употребляемым Геннадием Афанасьевичем словам и словосочетаниям и продолжим их рассматривать с учетом контекста, делая выводы о его личностных и профессиональных качествах.
Выше было показано, что Г.А. Матвеев в отношениях с учениками представлялся уверенным в себе, доброжелательным и веселым. Данные черты его личности подтвердил и его коллега по ДЮСШ №4 г. Благовещенска в 1984-1990 гг. (тренер по конькобежному спорту). Как отмечал его внук Е.Е. Матвеев в личной беседе, в домашней обстановке он проявлял те же черты и с ним было приятно общаться и хотелось проводить время особенно за занятием шахматами. Евгений Евгеньевич Матвеев не только часто бывал в гостях у амурского тренера, но и жил последние несколько лет его жизни с ним. Итак, можно сделать вывод о том, что уверенность, доброта и веселое расположение духа относились к Самости Г.А. Матвеева, их проявление зависело от обстановки, контекста ситуации и партнеров по общению.
Также мы отметили, что амурскому тренеру не нравилось, когда ученики пропускали занятия, нарушали дисциплину на тренировке, были невнимательны при анализе позиций. В данных ситуациях он показывал свое неодобрение, но не выказывал недовольства и осуждения. Однако, как мы отметили, недовольство он показывал, когда говорил «У вас шелуха в голове». Это выражение тренер употреблял в воспитательных целях, когда иногда на тренировке его внук Е.Е. Матвеева мог не проявлять достаточных серьезности и прилежания. (С другой стороны, Евгений Евгеньевич стал хорошим шахматистом-разрядником и тренером, который хорошо понимает детей младшего и среднего школьного возраста). В остальных случаях
Геннадий Афанасьевич явно показывать себе недовольство не позволял.
Есть еще группа ситуаций, в которых Геннадий Афанасьевич мог проявлять недовольство, осуждение и т.д. Амурский тренер был историком (учителем истории) по образованию, человеком православным и патриотом. Ему очень не нравились политики ближнего и дальнего зарубежья, которые позволяют себе проводить анти-российскую политику, жевать галстуки и делать еще ряд действий, которые не укладываются в мирную логику россиян. Также Геннадия Афанасьевича волновал объем потерь советских людей в годы ВОВ. В этой связи понятно, почему он некоторые позиции комментировал, вспоминания про пленение вражеского немецко-фашистского фельдмаршала Паулюса. Исходя из наших личных бесед и слов его родственников, можно говорить о том, что за вопросами актуальной политической ситуации он следил до самой своей смерти.
Итак, агрессивность, недовольство, осуждение и т.д. были для Геннадия Афанасьевича теневыми качествами личности. Как и у других людей, они возникали в случае его несогласия с происходящим, но он не пытался навязывать свою позицию другим, с уважением относился к взглядам, отличным от его (об этом он нам сам говорил в одной из личных бесед). С учетом того, что амурский тренер предпочитал строить свое взаимодействие с учениками фактически только через позитивное подкрепление, то возникает профессиональная педагогическая проблема - целесообразность негативного подкрепления с учениками и студентами. Думаем, все зависит от личностей воспитанников, конкретных ситуаций и обстоятельств, возраста учеников и студентов. Считаем данный вопрос дискуссионным, и, так как он не является предметом настоящей статьи, исследовать его не будем.
Таким образом, можно говорить о том, что в своей профессии Геннадий Афанасьевич проявлял только черты Самости и на уровне Персоны являлся большим знатоком своего дела, занятия которого было посещать интересно и приятно, а также на уровне взаимодействия между коллегами он демонстрировал те же черты своей личности, что и с учениками. Теневые качества он иногда мог проявить в присутствии своей семьи в воспитательных целях и в отношении антироссийски настроенных политиков ближнего и дальнего зарубежья.
Философия Ж. Лакана и теория и практика тренерской деятельности Г.А. Матвеева
В третьей части данной статьи мы считает интересным и целесообразным рассмотреть тренерскую практику Г.А. Матвеева с точки зрения философии Ж. Лакана, который придавал важное значение языку и речи в формировании и функционировании бессознательного. А, как мы отмечали выше и в предыдущих статьях, амурский тренер в своей педагогической деятельности много внимания уделял языку и речи как способам осознания техники игры в шахматы.
Подробнее охарактеризуем взгляды Ж. Лакана по поводу бессознательного, речи и языка. По мнению французского исследователя бессознательное - это язык. Первоосновой бытия он считал трехчлен «реальное-воображаемое-символическое». Символическое он соотносил с языком, воображаемое - с речью, реальность - с ничто. По его мнению, человеческое Я и психика проходят свое становление благодаря стадии зеркала, т.е. отражению окружающего мира. Так начинает формироваться представление о себе (Я) и других (Другом). Идеальным зеркалом является символическое. Реальный объект, отражаясь в зеркале, утрачивает свою реальность, превращаясь в воображаемый образ, т. е. феномен сознания. Без человеческого сознания, если сохранится восприятие реального мира, будут фиксироваться феномены эстетического сознания, не отраженные в Я. Эстетическое сознание и его феномены принадлежат к области символического. По мысли Ж. Лакана полнота реализации субъекта зависит от его приобщенности к мифам и ценностям. Символизация нам уровне мифов и ценность позволяет придавать забвению психологические травмы и переживания, выражая их через язык и слова [6-9].
Данное описание представляется нам правдоподобным описанием методов тренерской работы амурского тренера. Реальностью тренировочного и турнирного процессов было качество игры каждого из учеников. На уровне речи (воображаемого) Геннадий Афанасьевич называл своих учеников «маэстро», «гроссмейстер», «альтмейстер», что на уровне символического (языка, идеального) зеркала формировало соответствующих образ восприятия реальности. Были своя мифология и ценности: «пижоны», «стрелки-автоматчики», «маэстро», «живые» и «мертвые» (на доске и на карточке) позиции и т.д. Поражения воспринимались как переживания и могли быть выражены через язык - разбор партий, уверенные и поддерживающие слова тренера. В этом смысле в тренировочном процессе постоянно существовала триада «реальное-воображаемое-символическое», которая позволяла воспроизводить дискурс, который мы описываем в наших статьях. Собственно наличие данного дискурса позволяет ученикам Геннадия Афанасьевича поддерживать схожие представления о шахматах и игре в них, а также память о тренере.
Заключение
Итак, в данной статье мы исследовали часто употребляемые амурским шахматным тренером Г.А. Матвеевым слова и словосочетания (вместе с контекстом их употребления), что позволило нам частично составить человеческий и профессиональный (педагогический, тренерский) портрет Геннадия Афанасьевича.
Во-первых, амурский тренер в словах и делах был уверенным в себе человеком, с учениками и коллегами взаимодействовал с помощью уверенности, доброты, веселого расположения духа, стремился похвалить и внушить уверенность в себе ученикам. Это черты, присущие Самости Геннадия Афанасьевича, которые он проявлял в своей профессиональной Персоне (роли тренера).
Во-вторых, агрессивность, недовольство, осуждение и т.д. были его теневыми качествами и в его профессиональной
Персоне не нашли отражения. Условно негативные качества он мог немного проявить в сторону родственников в воспитательных целях, в значительной степени они отражались в его отношении к анти-российским политикам ближнего и дальнего зарубежья (будучи патриотом без возмущения и негодования он не мог смотреть на откровенно недружественные действия других стран).
Геннадий Афанасьевич придавал большое значение языку и речи в процессе обучения шахматам. Благодаря своей уверенности Г.А. Матвеев относительно серьезное или шуточное наименование учеников «альтмейстерами», «гроссмейстерами», «маэстро» делал не то что бы правдоподобным, а доверительным, что на уровне воображаемого (речи) и символического (языка) позволяло менять восприятие реальности сначала на уровне Я ученика, а потом и в реальности - конкретных действиях (стремление быть «маэстро» заставляло больше заниматься, что положительно влияло на результат). Плюс своя мифология и ценности. Данные обстоятельства обеспечили память о Геннадии Афанасьевиче Матвееве не только как о реальном человеке, но как и о символе. Если говорить о словах и словосочетаниях, которые многократно повторял амурский тренер, то для него они имели личностный смысл, выражали его мировоззрение, а для его учеников эти же слова могут быть не только символом определенных шахматных и жизненных ценностей, но и символом Геннадия Афанасьевича как воспоминания о нем.
Таким образом, необходимо четко различать Г.А. Матвеева как реального человека, тренера (профессионала) и как символическую фигуру, которая объединяет учеников в системе «реальное-воображаемое-символическое». Слова и словосочетания, которые многократно повторял Геннадий Афанасьевич, тоже принадлежат этой же системе. В этой связи даже точно помня сказанное им, необходимо сохранять методологическую аккуратность. Во-первых, слова и словосочетания, которые человек многократно повторяет, не исчерпывают все содержание его внутреннего мира. Во-вторых, из-за этого необходимо рассматривать контекст сказанного и через собственные воспоминания и воспоминания других людей изучать его модель поведения. В-третьих, нет возможности статистической обработки имеющейся информации. В-четвертых, име- ющихся данных мало для исчерпывающих выводов (например, содержание бессознательного меняется на протяжении всей жизни). В-пятых, к сожалению, сейчас с Геннадием Афанасьевич невозможно пообщаться лично и протестировать подробно. В этой связи данная статья представля- ет собой исследование того, что можно узнать о человеке, если знать что он и при каких обстоятельствах постоянно говорил, а также представлять его эмоциональночувственный фон в этот момент. Так, например, исходя из имеющейся информации, нельзя ничего сказать о его внут- ренних переживаниях и размышлениях, а это важный аспект человеческой личности. Но данной информации достаточно, чтобы делать выводы об особенностях педагогического общения Г.А. Матвеева в связи с его личностью, что и было предметом изучения настоящей статьи.
Список литературы К вопросу о некоторых особенностях педагогического общения преподавателя и студентов в личностноориентированной педагогике Г.А. Матвеева
- Шефнер В. Слова // Советская поэзия. В 2-х т. - М.: Художественная литература, 1977. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rupoem.ru/shefner/mnogo-slov-na.aspx (дата обращения 17.08.2022).
- Юнг К.Г. Архетип и символ. - М.: Реабилитация, Канон+, 2015. - 336 с.
- Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. - М.: Харвест, 2005. - 400 с.
- Юнг К.Г. О психологии бессознательного. - М.: АСТ, 2021. - 224 с.
- Юнг К.Г. Человек и его символы. - М.: Серебряные нити, Медков С.Б., 2017. - 352 с.
- Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного. 1957-1958 М.: Гнозис/Логос, 2018. 608 с.
- Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. - М.: "Русское феноменологическое общество", издательство "Логос", 1997. - 184 с.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. - М.: Гнозис, 1995. - 192 с.
- Структурный психоанализ Лакана // История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XX в.). - М.: "Греко-латинский кабинет" Ю.А. Шичалина, 1999. - 448 с.