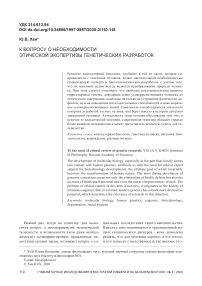К вопросу о необходимости этической экспертизы генетических разработок
Автор: Хен Юлия Вонховна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
Развитие молекулярной биологии, особенно в той ее части, которая соприкасается с генетикой человека, делает настоятельной необходимостью гуманитарную экспертизу биотехнологических разработок, с учетом того, что их конечной целью всегда является преобразование природы человека. При этом следует учитывать, что наиболее последовательные проекты корректировки генома, доводящие идею усовершенствования человека до логического завершения, нацелены не только на устранение физических дефектов, но и на повышение интеллектуальных способностей и даже моральное «усовершенствование» людей. Сама мысль о необходимости этического контроля за работой ученых не нова, она берет начало в истории печально знаменитой евгеники. Актуальность темы сегодня обусловлена тем, что, в отличие от классической евгеники, современная генетика обладает гораздо более мощным потенциалом и может представлять реальную угрозу для человечества
Молекулярная биология, генетика человека, евгеника, биотехнологии, вырождение, расовая гигиена
Короткий адрес: https://sciup.org/170175793
IDR: 170175793 | УДК: 314:613.94 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-2/110-116
Текст научной статьи К вопросу о необходимости этической экспертизы генетических разработок
Всякий раз, когда на повестку дня выносится вопрос о несовершенстве человеческой телесности и возможности (или даже необходимости) подкорректировать врожденные недостатки силами науки, возникает вопрос о со- циальных последствиях такого вмешательства. Вместе с ним поднимается и традиционный вопрос евгенического дискурса – кому дозволено решать, что для человека хорошо, а что плохо, и кто понесет ответственность (возможно, уго- ловную) за результаты вмешательства «высоких технологий» в устоявшийся ход вещей.
Идея усовершенствования человека очень старая. В ее истории прослеживается несколько циклов, характеризующихся возвратом к одним и тем же идеям, правда, всякий раз на новом уровне, отражающем глубину знаний эпохи о процессе передачи наследственной информации. Эти и многие другие особенности евгенического дискурса подробно рассмотрены мною в монографии «Философский анализ евгенических представлений (качественная демография)» [3], на которую я позволю себе здесь сослаться, чтобы не останавливаться подробно на некоторых (очень значимых) аспектах.
Сейчас мне хотелось бы сосредоточить внимание на одном довольно частном вопросе, а именно на непрерывности евгенического дискурса, точнее – на ее отсутствии. Поясню, что имеется в виду. Цикличность истории евгеники выражается в том, что ее теоретики постоянно возвращаются к одним и тем же вопросам и схожим их решениям. При этом каждое новое поколение исследователей начинает рассмотрение вопроса словно бы с чистого листа. И ведь такая практика не затрагивает собственной профессиональной сферы евгениста. Если он специализируется в области биологии, то ему и в голову не приходит повторять опыты Менделя или пересматривать аргументацию Уотсона и Крика. Что сделано, то сделано и навсегда остается в копилке научного знания, бережно хранимое и используемое по мере необходимости в качестве теоретической предпосылки для последующих рассуждений. Иначе обстоит дело с «гуманитарной» составляющей евгеники. На каждом витке исторического цикла эти проблемы рассматриваются заново, словно предшественниками не было сделано абсолютно ничего. Те же вопросы, та же аргументация, похожие решения. Каждое новое поколение исследователей, приступая к анализу рисков, словно бы начинает с нуля, наступая при этом на те же грабли, что и предшественники.
Задача данной статьи видится мне в том, чтобы преодолеть «забывчивость» новых «евге-нистов» и вернуть в обращение некоторые идеи и подходы к анализу «гуманитарных» последствий геномных исследований из числа разработанных предыдущими поколениями ученых. Это представляется целесообразным, поскольку, хотя собственно научная и инструментальная часть генетики за прошедшие полтораста лет (отсчитываем с момента выхода дарвиновского «Происхождения видов…») шагнула далеко вперед, социальные и этические проблемы евгенического проекта остались прежними. Это соображение позволяет обратиться к одному очень интересному (и значимому) событию в отечественной философии науки, а именно к круглому столу, посвященному гуманитарным проблемам генетики человека (1970 г.), материалы которого были опубликованы на страницах журнала «Вопросы философии» [1].
Самая яркая (и самая страшная) страница в «социальной» истории генетики человека связана с расовой гигиеной, практиковавшейся в фашистской Германии. Ужас, пережитый человечеством в результате «осуществления» давней мечты о совершенстве, американский исследователь Ф. Фукуяма назвал «хорошей прививкой» [2, с. 222], которая на несколько десятилетий отбила охоту обсуждать способы, возможность и необходимость усовершенствовать человечество средствами науки. Группа немецких историков, анализируя послевоенную ситуацию в сфере науки, сформулировала несколько вопросов, на которые предстояло ответить, прежде чем продолжать весьма перспективные исследования в генетике человека, прерванные войной. «Насколько политическая переоценка ценностей, произошедшая по окончании войны, затронула данную дисциплину, и до какой степени общественное порицание затронуло и евгенику? На какие исследовательские области, теории и притязания распространилась эта переоценка? Как можно свести к минимуму негативные последствия политизации науки, которая на протяжении более полутора десятков лет только приветствовалась? Антропология, генетика и расовая гигиена оказались в одинаковой ситуации, поскольку были представлены одним и тем же поколением исследователей, чьи биографии охватывали резкую смену одной политической культуры на другую (к некоторым из них это относится вдвойне: от Веймарской республики – к национал-социализму и далее – к послевоенной Германии). Это продолжалось до шестидесятых годов, пока в названных дисциплинах не произошла смена поколений» [5, с. 581].
Когда же долгожданная «смена поколений» произошла, то в науку пришли люди, не получившие «прививки». О евгенических идеях снова стало возможно говорить, но осторожно, по возможности не употребляя данный термин или хотя бы делая это с оговорками. Но фактически проблематика классической евгеники постепенно стала возвращаться в повестку научных диспутов, правда, уже не под собственным именем (дискредитированный термин «евгеника» до сих пор остается под запретом – слишком сильны негативные коннотации), а под эгидой генной инженерии, которая унаследовала не только проблемное поле расовой гигиены, но и многие из ее аргументов и решений. Как справедливо замечает Ф. Фукуяма, «генная инженерия человека самым прямым образом поднимает вопрос о новом виде евгеники, со всеми соответствующими моральными последствиями, которыми это чревато…» [2, с. 108].
В России примерно в то же время, что и в остальном мире (1960-е гг.), возобновляется спорадическое обсуждение схожих вопросов. По-другому и не могло быть, учитывая стремительное развитие молекулярной биологии и генетики. Философы и ученые-естественники, реагируя на вызовы эпохи, выходят на обсуждение этических проблем, порождаемых успехами биотехнологий. Прогнозы относительно возможностей генной инженерии естественным образом перерастают в обсуждение опасностей, которые она с собой несет. Речь идет не только о непредвиденных биологических последствиях, но и о социальных «перегибах»1.
Своеобразным итогом этих дискуссий и стал круглый стол «Генетика человека, ее философские и социально-этические проблемы», проведенный журналом «Вопросы философии» в 1970 г. Мероприятие не могло не вызвать интерес у представителей самых разных научных специальностей, но прежде всего – у философов, поскольку было посвящено рассмотрению именно философских аспектов научной деятельности. В работе круглого стола приняли участие многие видные советские ученые, чьи разработки так или иначе выходили на евгеническую проблематику. Поднимался и вопрос о правомерности употребления слова «евгеника», поскольку всякому было понятно, что генетика человека, если только она не ограничивалась лабораторными исследованиями, а предполагала тем или иным способом «исправлять» геном, ставила перед собой те же задачи, что и классическая евгеника. Академик Н.П. Дубинин высказался по этому вопросу достаточно определенно (хотя вряд ли получил всеобщую поддержку): «Не нужно бояться слова евгеника только потому, что его использовали расисты. Однако необходимо разграничивать понятия, без этого основные вопросы могут быть запутанными» [1, с. 110]. Другой участник круглого стола, А.А. Малиновский, также предпринял попытку реабилитации евгеники, заявив, что ее изначальная цель – это обеспечение наследственного здоровья. И сама по себе эта цель положительна, просто ее основатель – Ф. Гальтон – допустил ряд ошибок, в результате чего евгеника впоследствии «дала начало двум направлениям – научному и гуманному, основанному на распространении знания и добровольности, способствовавшему возникновению медицинской генетики, и – реакционному, получившему наиболее пышное развитие в нацистской Германии. У нас со словом “евгеника” обычно ассоциируется именно последнее, но это неверно. Бояться этого слова не следует» [1, с. 114]. Позволю себе здесь незначительный комментарий. Выступление А.А. Малиновского идеологически выдержано в духе 1970-го года. Отсюда разделение евгеники на гуманную (научную) и реакционную (нацистскую). Более традиционно, однако, разделять благие цели евгеники (счастье человечества) и ее антигуманные средства (сегрегация полов, стерилизация преступников, эвтаназия неполноценных и т.д.). Тем не менее, как показывает более глубокий анализ проблемы целей и средств, намерения евгеники тоже не сулят человечеству ничего хорошего, даже в том случае, когда речь идет о так называемой «либеральной евгенике».
В работе круглого стола принял участие выдающийся ученый-генетик В.П. Эфроимсон, работы которого наиболее близко граничат с евгенической проблематикой. Он писал об упомянутых А.А. Малиновским ошибках Ф. Гальтона следующее: «Вульгарный дарвинизм подразумевает под естественным отбором борьбу всех против вся. Он игнорирует одну из особенностей эволюционного развития человека: наряду с борьбой за существование, наряду со всеми звериными инстинктами, которые были у чело- века, его эволюция характеризуется чрезвычайно интенсивным отбором по свойствам, которые мы можем назвать человеческими» [1, с. 125].
Здесь мне хочется на время отойти от материалов круглого стола и задержаться на творчестве В.П. Эфроимсона, поскольку в истории генетики это, несомненно, очень значимый персонаж, фигура мирового масштаба. Он выдвинул, в частности, идею эволюционного происхождения этики и эстетики, утверждая, что хотя влияние социальной среды на формирование личности имеет огромное значение, нельзя забывать о нескольких очень важных обстоятельствах. Во-первых, что каждый индивид чрезвычайно избирательно восприимчив к внешним явлениям; во-вторых, индивид – это не семя, прорастающее там, куда его занесло, а существо, довольно активно выбирающее себе свое окружение; в-третьих, как показывает опыт, в одних и тех же условиях вырастают совершенно разные индивиды, а это означает, что влияние среды не абсолютно. И, наконец, «каждый индивид обладает личной, особенной восприимчивостью и сопротивляемостью различным средовым воздействиям» [4, с. 19]. Таким образом, для адекватного восприятия человека необходимо учитывать в равной мере и влияние генетики, и влияние среды, поскольку именно эти два фактора в совокупности формируют уникальную индивидуальность.
Вульгарный дарвинизм, по мнению В.П. Эфроимсона, слишком упрощенно трактовал влияние генетических факторов на развитие личности, но это не повод для того, чтобы полностью отрицать наличие такого влияния. Тот факт, что теория Дарвина так органично подходила для толкования явлений социальной действительности, делал ее необыкновенно привлекательной для различных политических течений. Но поскольку теория Дарвина первоначально предназначалась не для социальной среды, она была идеологически индифферентной, а значит, вполне могла служить основой для самых разных политических платформ. В результате не только евгеника, но и дарвинизм, на который она опиралась как на собственное основание, оказался отмечен меткой «политической правизны». Термин «социальный дарвинизм», изобретенный для псевдонаучного оправдания «звериной» жестокости в обращении с людьми, говорит сам за себя, но, отмечает В.П. Эфроимсон, «идея о национально-расовом неравенстве возникла за тысяче- летия до Дарвина, как и идея о естественном превосходстве преуспевающих над неудачниками, богатых над бедными, знати над чернью. Однако дарвинизму “не повезло”, так как он очень быстро был использован как доказательство естественности социального неравенства. При этом за отсутствием “подходящих” мест у самого Дарвина ссылаются на Т. Гексли, сподвижника и комментатора Дарвина. Тем самым и социал-дарвинизму придается известная близость к самому Дарвину» [4, с. 104].
Возвращаясь к обсуждению докладов круглого стола, заметим, что сходное отношение к евгенической проблематике представлено и в выступлении В.М Гиндилиса. Он замечает: утверждая, будто индивидуальные особенности человека определяются исключительно генотипом, мы как бы впадаем в мировоззренческий «грех», делаем шаги в сторону расизма. «Но расизм есть концепция, которая всегда строилась на совершенно определенных следствиях из каких угодно посылок. Расистскую концепцию можно построить, исходя, в том числе, и из чисто генетических фактов. Признание справедливости доказанных наукой положений о значительной роли биологических и генотипических факторов в психофизиологии человека не есть ошибка. Ошибка возникает тогда, когда на основе этих фактов пытаются утверждать о фатальности наследственных факторов вообще, отрицают роль внешней среды, или наличием биологических различий пытаются оправдать социальное неравенство. Расизм начинается не тогда, когда устанавливаются и исследуются какие-то биологические различия между индивидами или группами индивидов, а тогда, когда к таким различиям начинают применять чисто обывательские критерии “лучше – хуже”, и на этой основе строят затем различные концепции о социальном неравенстве и т.д.» [1, с. 114].
Еще один из выступающих, Я.С. Иориш, обратил внимание на факт «мутации» евгеники в послевоенный период. Он заметил, что преодолеть в одночасье негативное отношение к евгенике было невозможно, и это привело к тому, что ее исследовательская область была разъята на части и сделалась достоянием других дисциплин. Генетика человека, медицинская генетика, антропология – эти и многие другие науки о человеке сегодня занимаются разработкой проблем, прежде объединенных под эгидой евгеники. Дробление области исследования пред- ставило евгенические проблемы в ином свете, что позволило продолжить работу хотя бы по некоторым направлениям, так что они уже не вызывали стойкого раздражения советских идеологов. «До последнего времени мы или вообще обходили эти вопросы, или ограничивались краткой и весьма решительной отрицательной оценкой практических рекомендаций и попыток в этой области. Перед нами всегда витал призрак фашистской евгеники, и этим было сказано все» [1, с. 127].
Дробление дисциплины было оправдано и само по себе, безотносительно к желанию не раздражать общественное мнение. Неоправданным было скорее чрезмерное обобщение евгенических выводов, характерное для расово-гигиенических программ начала ХХ в., приведшее к расширительному толкованию евгенической задачи и, как результат, к путанице. Н.П. Дубинин говорит в этой связи, что в биологии «долгое время шли споры о том, наследуются ли адекватно в потомстве признаки, приобретенные данным организмом. Эти споры происходили в конце ХIХ в. и были предметом биологических дискуссий в нашей стране в 1932–1948 гг. Однако нельзя забывать, что правильный тезис о ненаследовании признаков приложим только в отношении генетической программы . … Духовный мир человека, хотя и опирается в биологическом плане на гены, однако складывается сложными путями под определяющим влиянием внешней социальной среды. Так возникает и социальная типизация личности и ее духовная уникальность. … Вполне понятно, что евгеники рекомендуют соответствующие методы, исходя из задач переделки генотипа человека. Эти методы ничем не отличаются от приемов, разработанных в селекции животных и других организмов. Очевидно, что применение подобных методов к людям превратит их в экспериментальное стадо. Нравственные последствия от такой операции, если бы кто-нибудь мог ее осуществить, были бы ужасными. Это бы явилось разрушением всех понятий о добре и зле, разрушением самой сущности понятия “человек”, его социальной определенности» [1, с. 109–110].
Многие участники дискуссии сошлись во мнении, что евгенические замыслы преждевременны и не имеют под собой объективного основания. Н.П. Дубинин, например, считал, что на данном этапе развития цивилизации нет никакой реальной потребности в изменении гено- ма человека, а также не существует и реальных методов целенаправленного изменения общей генетической информации (и в этом он был абсолютно прав). Тем самым он справедливо отметил отсутствие двух основных предпосылок, с которых, собственно, и начинается евгеническое планирование: реальная (а не воображаемая) потребность внести коррективы в геном и способность эти изменения произвести. По его мнению, прежде чем усовершенствовать человека, следует выяснить, что такое «человек» – как с генетической, так и с социальной точки зрения: «Только на основе этого понимания можно размышлять о том, нужно ли улучшать человека в генетическом отношении. Идея, приведшая евгеников к мысли, что такое улучшение нужно, – это идея о генетическом вырождении человека. Причину этого вырождения они видят в том, что у человека прекратился естественный отбор и вредные мутации накапливаются» [1, с. 108]. Однако, по мнению Н.П. Дубинина, концепция вырождения не имеет научного основания, о чем свидетельствуют, в частности, данные популяционной генетики.
Начав заседание с призыва к реабилитации евгеники (Н.П. Дубинин), участники круглого стола все-таки затронули вопрос о демаркации генетики и евгеники. Провести эту границу в реальности трудно хотя бы потому, что, как писал П. Вайнгарт, обе специализации представлены одной и той же группой ученых. Фактически, демаркация проходит не по предметной области, а по области намерений. Например, если генетическое вмешательство имеет своей целью устранение летальной мутации, то оно относится к области медицинской генетики, а если вмешательство проводится с целью улучшения адаптации организма к изменениям среды, то это уже из области евгеники. Но легко представить ситуацию, когда организм адаптируется болезненно медленно. Как тогда следует квалифицировать действия медиков? Таким образом, мы попадаем в своеобразный «герменевтический» круг, в котором смысл нашей деятельности определяется целью, а цель зависит от смысла, приписываемого нашим действиям. Вопреки желанию отмежеваться от преступлений, совершенных поборниками расовой гигиены в годы войны, в работах описываемого периода (1960-е гг.) между евгеникой и генетикой человека нередко ставится знак равенства (заметим, что на рубеже XIX–XX вв. словосочетание «генетика человека» было одним из си- нонимов евгеники). Примером может служить выступление А.Н. Леонтьева о генетической обусловленности психических особенностей личности, в котором он, говоря о генетике человека, перечисляет трудности и «грехи», присущие именно евгенике, порицая ее склонность делать поспешные обобщения и неоправданные экстраполяции. Позиция А.Н. Леонтьева – не случайность и не результат небрежности, а скорее дань времени. Сколько бы слов ни было сказано о том, что бояться термина «евгеника» не следует, ученые все-таки избегают употреблять его. И не столько потому, что евгеника была обременена дурным политическим наследством, сколько потому, что она проявила себя как псевдонаучное, утопическое мероприятие. Для современного ученого нет более страшного клейма, чем обвинение в ненаучности. Однако если быть абсолютно честным с самим собой, придется признать, что предельной задачей генетики человека, ее конечной целью является именно усовершенствование человеческого генома, то есть задача совершенно евгеническая. И если это не так, то все силы и средства (в том числе и финансовые) затрачены на генетические разработки впустую.
Понимание евгеники как области целеполагания генетических исследований придает ей более завершенный вид и определяет ее законное место в области наук о человеке. Тем самым генетика, чистая наука, освобождается от обязанности решать несвойственные ей этические проблемы. Заметим, между прочим, что именно об этом мечтал Н.К. Кольцов, выдающийся российский биолог, основавший в 1920 г. Русское евгеническое общество.
На круглом столе обсуждался еще один аспект, который представляется мне особенно актуальным применительно уже к нашему этапу развития биотехнологий. Все мы сегодня признаем необходимость «гуманитарной экспертизы», но какими «полномочиями» мы готовы ее наделить? Конечно, к новым возможностям науки следует относиться с осторожностью, но нельзя не признать, что процесс приращения позитивного знания невозможно остановить. Как выразился М.Е. Вартанян, «если технические возможности (имеется в виду методика) позволят добиться решения поставленных вопросов и интерес ученых к этой проблеме будет по-прежнему велик, то исследования будут продолжаться, и вряд ли то или иное отношение к ним может приостановить их» [1, с. 132].
Сегодня мы можем наблюдать примеры того, как можно обходить запреты, если имеется заинтересованный заказчик, располагающий необходимой суммой. Я даже не имею в виду секретные лаборатории (преступность – это отдельный вопрос), но можно на «законных» основаниях оборудовать лабораторию на корабле, плавающем в международных водах за пределами всякой юрисдикции, и это позволит игнорировать любые правительственные запреты на проведение экспериментов с человеческими эмбрионами, например.
К концу 1960-х гг. уже вполне оформилось отношение к науке как к силе, легко выходящей из-под контроля. Понятно, что появление нового оружия в арсенале этой силы прежде всего вызывало желание оценить риски, то есть возможные негативные последствия от применения нового знания. Генные технологии представлялись именно оружием, причем не только противникам безудержного экспериментирования с геномом, что было бы понятно, но и тем генетикам, которые склонны были оптимистично оценивать возможности нового исследовательского направления. И только один из участников круглого стола, М.К. Мамардашвили, обратил внимание на то, что, обсуждая риски, связанные с вмешательством в развитие человеческого индивида, мы имеем дело со старой проблемой. Свое выступление М.К. Мамардашвили начал с признания, что он не знаком со специальной литературой по генетике и в своих рассуждениях будет руководствоваться чем-то вроде «скептического здравого смысла, рационализма». С этой точки зрения в наших рассуждениях можно обнаружить «и реакции суеверия, и непродуманные, бессознательно принимаемые социальные, философские допущения. Например, в связи с генетическими экспериментами задают вопрос: имеем ли мы право вмешиваться в интимный мир личности, в судьбу ребенка, который еще не родился, решать за него и т.д.? Но обратите внимание, что нечто, существующее по традиции, стихийно, нами уже принято в качестве само собой разумеющегося, обоснованного, а указанный вопрос мы ставим лишь тогда, когда что-то следует из поддающихся научной аргументации мероприятий. И все срезу же окутывается туманом, который мне кажется туманом суеверия. Ведь – и здесь прав А.А. Нейфах2, указывая просто на фактическое положение дела, – мы ежедневно и ежечасно практически вмешиваемся в развитие человека, делаем это не задаваясь вопросом, имеем ли мы на это право или нет, и, тем более, не спрашивая на это согласия ребенка, – поскольку за этим стоит стихийно сложившаяся культура, освещенная многовековой традицией. Внушаем ли мы правила физической гигиены, даем ли мы ребенку в руки учебник по обществоведению или физике, или научаем его социально-приспособительному поведению – мы решаем за него и вмешиваемся в него. А вот когда те или иные методы являются приложением выводов из рациональной научной конструкции, когда опыты вмешательства следуют из рассуждений профессора Х, то мы добродетельно возмущаемся, морализируем» [1, с. 130].
Выступление М.К. Мамардашвили импонирует мне содержащимся в нем здравым смыслом и взвешенностью, этими всегдашними гасителями панических настроений. Именно на этом хочется закончить обзор конференции, напомнив, однако, что в истории евгеники уже не раз бывало, что реальные возможности ее сильно переоценивались. Возможно, такова и современная ситуация, при том что отрицать потрясающие новые возможности генной инженерии нельзя.
Список литературы К вопросу о необходимости этической экспертизы генетических разработок
- Лисеев И.К., Шаров А.Я. Генетика человека, ее философские и социально-этические проблемы (Круглый стол "Вопросов философии") // Вопросы философии. 1970. № 7. С.106-115;№ 8. С. 125-134.
- Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, 2004.
- Хен Ю.В. Философский анализ евгенических представлений (качественная демография). Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011.
- Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб.: Талисман, 1995.
- Weingart, P., Kroll, J. and Bayertz, K., 1988. Rasse, Blut und Gene - Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt am Main: Suhrkamp.