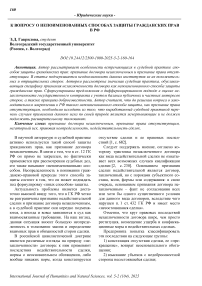К вопросу о непоименованных способах защиты гражданских прав в РФ
Автор: Гаврилова Э.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает особенности встречающихся в судебной практике способов защиты гражданских прав: признание договора незаключенным и признание права отсутствующим. В статье подчеркивается неоднозначность данных институтов из их положительных и отрицательных сторон. Автором рассмотрена значимая судебная практика, обуславливающая специфику признания незаключенности договора как непоименованного способа защиты гражданских прав. Сформулированы предложения о дифференцированном подходе к оценке незаключенности государственного контракта с учетом баланса публичных и частных интересов сторон, а также принципа добросовестности. Автор считает, что до решения вопроса о законодательном закреплении в РФ такого непоименованного способа защиты, как признание права отсутствующим, необходимо исходить из того, что выработанный судебной практикой перечень случаев применения данного иска по своей природе является исчерпывающим и не должен подлежать расширительному толкованию.
Признание договора незаключенным, признание права отсутствующим, негаторный иск, правовая неопределенность, недействительность сделок
Короткий адрес: https://sciup.org/170209358
IDR: 170209358 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-160-164
Текст научной статьи К вопросу о непоименованных способах защиты гражданских прав в РФ
В научной литературе и судебной практике активно используется такой способ защиты гражданских прав, как признание договора незаключенным. В связи с тем, что в ст. 12 ГК РФ он прямо не закреплен, но фактически применяется при рассмотрении судебных дел, его также называют «непоименованным» способом. Неопределенность в понимании гражданско-правовой природы этого способа защиты состоит в том, что он может подпадать под формулировку «иных способов» защиты.
Актуальность проблемы является достаточно высокой ввиду того, что в ГК РФ четко не разграничены признание недействительной сделки и признание договора незаключенным, а в судебной практике они нередко подменяются, а иногда и вовсе заявляются в суд как взаимосвязанные требования. На наш взгляд, данная ситуация вносит большую неопределенность в толкование закона и определение взаимных прав и обязанностей сторон сделки.
В российской цивилистической доктрине имеются различные взгляды на природу «незаключенности» договора: к ним применяют последствия недействительности сделки, нормы о неосновательном обогащении, либо вообще никаких норм, когда констатируется отсутствие сделки и ее правовых последствий [1, с. 682].
Следует поддержать мнение, согласно которому трактовка незаключенного договора как вида недействительной сделки не охватывает всех возможных случаев квалификации сделки [2, с. 230]. Основанием признания сделки недействительной является договор, заключенный, но с пороками субъектного состава, воли, формы или содержания: в свою очередь, основанием признания договора незаключенным – факт не согласования всех или хотя бы одного существенного условия для данного вида договоров, вследствие чего нарушен п. 1 ст. 432 ГК РФ и имеет место «несостоявшаяся сделка».
Отметим, что круг правовых последствий незаключенности договора шире, чем просто реституция, возмещение ущерба и конфискационные меры в недействительных сделках.
Предпринята попытка классифицировать эти последствия на следующие группы:
-
1) констатация отсутствия сделки, ее «прекращение», возврат неосновательного обогащения;
-
2) взыскание убытков с недобросовестной стороны несостоявшейся сделки;
-
3) правовая квалификация фактически сложившихся отношений сторон (конвалида-ция порочной сделки, изменение квалификации на другую сделку, констатация отсутствия фактических отношений сторон) [3, с. 113].
Неоднозначность института признания договора незаключенным, на наш взгляд, вытекает из его положительных и отрицательных сторон.
Отрицательные сторона видится в применении этого способа недобросовестными участниками гражданского оборота, пытающимися использовать его от ухода от законной ответственности за нарушение обязательства: незаключенный договор «освобождает» от взыскания убытков и неустойки. Но эта проблема, характерная для практики более, чем десятилетней давности, решена законодателем в п. 3 ст. 432 ГК РФ.
Положительное же значение признания договора незаключенным видится в уменьшении формализации при заключении сделки и акценте на стабильности и определенности фактически сложившихся взаимоотношений сторон. Это было отмечено еще в Обзоре судебной практики ВАС РФ от 25.02.2014 № 165.
Позиция ВАС РФ выражалась в том, что при исполнении сторонами обязательств до государственной регистрации сделки с недвижимостью стороны определились в предмете сделки, и она не может быть признана незаключенной, если только это не затрагивает прав и законных интересов третьих лиц [4].
В научной литературе такой подход признавался нестандартным, но имеющим риски поощрения действий сторон в обход закона и фактические упраздняющим требование государственной регистрации сделки, если стороны хотят ее избежать [5, с. 100].
Отметим, что в некоторых случаях без предъявления исковых требований о признании договора незаключенным нельзя должным образом защитить свои гражданские права. Например, при отсутствии акта приема-передачи объекта недвижимости при договоре купли-продажи суд счел данную собственником расписку о приеме фактически не полученных денег недействительной, а договор купли-продажи квартиры незаключенным [6].
В информационной же среде в большинстве случаев констатируется введением соот- ветствующего СМС-кода, приравненного к простой электронной подписи (ПЭП). В судебной практике распространены случаи, когда договор заключается в результате мошенничества с использованием персональных данных лица [7]. Примечательно, что в данном случае признание «незаключенности» договора свидетельствует об отсутствии соответствующих гражданских правоотношений, в связи с чем требования о компенсации морального вреда не применяются.
В целом судебная практика исходит из возможности сохранения сложившихся гражданских правоотношений, несмотря на «незаключенность» договора первоначального. Например, при признании договора подряда незаключенным, суд может применить к возникшим правоотношениям нормы главы 37 ГК РФ. Кроме того, заказчик имеет право принять работы при условии отсутствия ссылок на незаключенный договор.
Однако возникают и противоположные ситуации, когда суды не предполагают возможности сохранения сложившихся отношений сторон при незаключенности договора (акт приемки выполненных работ не рассматривается в качестве доказательств возникновения правоотношений) [8]. Например, по государственным контрактам для государственных и муниципальных нужд, заключаемых на конкурсной основе.
Вместе с тем представляется, что к признанию незаключенным государственных контрактов для государственных и муниципальных нужд следует подходить дифференцированно в зависимости от того, в какой мере исполнение этого контракта способствовало достижению публичных целей. Например, если это касается важный социально-культурный или спортивный объект, предусмотренный федеральной целевой программой, то для обеспечения принципа эффективного использования бюджетных средств судам следует учитывать факт исполнения контракта в том или иной объеме безотносительно к соблюдению конкурсных процедур (нарушение правил которых ведет к незаключенности договора).
Безусловно, противники этой точки зрения будут ссылаться на то, что в этом случае нарушение конкурсной процедуры будет оправдываться необходимостью соблюдения публичных целей закупок. Однако, исходя из практики Конституционного Суда РФ, на наш взгляд, целесообразно продумать подход к разрешению этих споров, учитывающий баланс публичных и частных интересов. Имеется в виду, что интересы подрядчика, покупателя или иного исполнителя государственного контракта, добросовестно исполнившего работы и полагавшегося на обещание заказчика оплатить указанные работы, будут ущемлены. Это представляется нарушением основополагающих принципов гражданского права, закрепленных в ст. 1 ГК РФ. Полагаем, что по данному вопросу желательно было бы сформулировать разъяснения Пленума ВС РФ.
Кроме того, считаем, что по вопросу законодательного закрепления конструкции признания договора незаключенным можно учитывать опыт Республики Беларусь, которая легально закрепила признание договора незаключенным как исключительный способ защиты гражданских прав.
При этом подход белорусского законодателя ограничен тем, что ст. 11 ГК РБ распространяется только на сделки, не связанные с предпринимательской деятельностью: другие сделки с участием предпринимателей презюмируются заключенными ввиду активных действий по совершению сделки, носящих добросовестный характер.
На наш взгляд, в Российской Федерации нужно идти дальше. Незаключенный и недействительный договор имеют различные основания возникновения и правовые последствия: в настоящее время отсутствует сходство научных позиций, единообразие судебной практики для данной категории дел.
Поскольку судебная практика в нашей не является официальным источником гражданского права, для устранения всех имеющихся разночтений внести следует внести в ст. 12 ГК РФ изменения, закрепив такой способ защиты гражданских прав, как признание договора незаключенным.
В свою очередь, такой способ защиты, как иск о признании права (обременения) отсутствующим существует де-факто в качестве правовой позиции судебной практики. К примеру, он применяется при спорах, касающихся регистрации права собственности на один недвижимый объект за разными лицами; регистрации права собственности на движимое имущество как на недвижимое; прекращения ипотеки или иного обременения.
В настоящее время судебная практика пошла по пути расширения сферы применения исков о признании прав отсутствующими, включив в этот перечень ряд других исков о признании отсутствующей, в частности:
-
- регистрации прав собственности на земельный участок в границах другого участка, что порождает неопределенность не только в четком разграничении прав собственности, но и о границах самих объектов недвижимости [9, с. 40];
-
- регистрации прав собственности на несуществующий объект;
-
- регистрации прав собственности на объекты, вообще не относящиеся к имуществу (например, на неотделимые улучшения здания).
Считаем, что позиция судов, расширяющая перечень случаев применения Постановления, представляется необоснованной и выходящей за рамки судебных полномочий, предусмотренных Конституцией РФ и Арбитражнопроцессуальным кодексом РФ.
Так, в частности, иски о признании отсутствующими прав на прекратившие существование объекты недвижимости предъявляются как негаторные в смысле ст. 304 ГК, поскольку владение собственником недвижимой вещью сопровождается наличием препятствий для пользования и распоряжение этим объектом со стороны чьего-либо чужого зарегистрированного права.
Именно поэтому исковое требование об устранении препятствий в пользовании недвижимостью и обязывании третьего лица (Росреестра) исключить запись о чужих правах на объект из ЕГРН является достаточным и надлежащим способом защиты гражданских прав.
Такой же порядок применяется, как мы думаем, и к ситуации регистрации права собственности на объекты, не являющиеся вещью. В этих случаях речь идет о неправильном оформлении правоустанавливающих документов по фактической ошибке государственных регистраторов или, во всяком случае, по технической ошибке, например, сотрудников бюро технической инвентаризации, допущенной при паспортизации объекта.
Предполагаем, что негаторного иска здесь вполне достаточно.
В случае исков между собственниками зе- мельных участков, находящихся в границах друг друга, ничто не препятствует предъявить иск о признании права собственности на весь участок (со стороны собственника большего по размеру участка) либо на часть участка как целый участок (со стороны собственника меньшего по размеру участка).
Признание прав собственности ответчика отсутствующим в данном случае ничего не дает, поскольку оспаривается основное зарегистрированное право каждого собственника, в условиях чего иск о признании регистрации прав отсутствующей не соответствует целям исключительности, будет избыточным и ненадлежащим способом защиты.
С этим же связан вопрос о неоднозначном применении сроков исковой давности к изложенным требованиям, поскольку применение исковой давности зависит от факта владения недвижимым имуществом.
Как справедливо отмечает А.А. Личидов, при отсутствии владения решение суда о виндикации спорной вещи требует соблюдения сроков исковой давности, но позволяет решить вопрос о ее принадлежности и судьбе записи в ЕГРН [10, c. 236]. Думается, при наличии же владения спорной вещью, для ко- торого создаются препятствия, на что не распространяется исковая давность, отказ ответчика признать право собственности истца может трактоваться именно как иск о признании в положительном смысле (а не негативный иск о признании права отсутствующим).
В этой связи следует отметить, что в романо-германской правовой системе, к которой формально относится и Российская Федера- ции, основным и решающим источником права является закон. Поскольку судебная практика является неформальным и дополнитель- ным источником права, усмотрение суда не может идти вразрез с законом. Именно поэтому перечень случаев, к которым применяется иск о признании права отсутствующим, указанный в Постановлении еще в 2010 г., является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
На наш взгляд, расширение судами сферы применения подобного рода исков приводит к усложнению толкования и созданию дополнительной правовой неопределенности; требует дополнительных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также в некоторых случаях ведет к подмене способов защиты гражданских прав, когда из-за риска пропусков срока исковой давности стороны заявляют не иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения и не иск о признании права в положительном смысле, а именно негативный иск о признании (права отсутствующим), на который не распространяется исковая давность как на негаторный иск, хотя не всегда это отвечает правовой природе спора.
С учетом того обстоятельства, что за 15 лет существования разъяснений, данных последовательно в 2010, 2013 и 2019 гг., судебная практика по этим искам по-прежнему востребована, но не выработала единообразный стандарт применения закона, требуется вмешательство законодателя. Внесение в закон изменений и уточнений, связанных с легализацией данного рода исков, позволит обеспечить единообразие и эффективность правоприменительной деятельности судов.