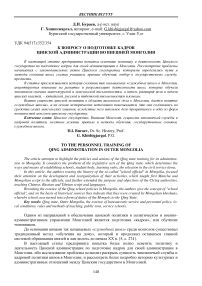К вопросу о подготовке кадров Цинской администрации во внешней Монголии
Автор: Бураев Д.И., Хишигжаргал Г.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (49), 2014 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье предпринята попытка осветить политику и деятельность Цинского государства по подготовке кадров для своей администрации в Монголии. Рассмотрение проблемы начинается с законодательных актов Цинского государства, которыми определялись пути и методы создания школ, состав учащихся, правила обучения, отбор в государственную службу, предметы. В статье прослеживается история создания так называемых «служебных школ» в Монголии, акцентируется внимание на развитие и реорганизацию деятельности школ, которые обучали чиновников сначала маньчжурской и монгольской письменностям, а затем, расширяя цели и задачи цинских властей, - китайской, русской и тибетской письменностям и языкам. Выявив сущность цинской политики в области школьного дела в Монголии, дается понятие «служебные школы», и на основе исторических источников показывается, что они создавались на средства самих монгольских хошунов, вследствие чего школьное дело превратилось в одну из форм повинностей монголов цинскому государству.
Цинское государство, внешняя монголия, сущность чиновничьей службы и кадровой политики, местные условия, правила и методы обучения, государственные сыновья, служебные школы
Короткий адрес: https://sciup.org/142148182
IDR: 142148182 | УДК: 94(517):352/354
Текст научной статьи К вопросу о подготовке кадров Цинской администрации во внешней Монголии
Одним из направлений в обеспечении цинской политики в политическом и военноадминистративном управлении Монголией является подготовка «кадров», или обучение чиновников.
До основания цинами так называемых « служебных школ» среди монголов существовал традиционный метод «обучения на дому», который и продолжал оставаться главной системой образования князей и лам вплоть до начала ХХ в. [5, с. 274].
В настоящей статье предпринята попытка более полно осветить политику и деятельность Цинской администрации по подготовке кадров для своей администрации в Монголии, ибо исследование проблемы позволит раскрыть сущность чиновничьей службы и кадровой политики цинов в Монголии, и рассмотреть более подробно историю культурных и административных отношений между Цинским государством и Монголией.
Рассмотрение проблемы следует начать с законодательных актов Цинского государства, в связи с чем в качестве основного закона нами взято «Монгольское уложение» («Гадаад Монголын хууль зYйлийн бичиг» - Г.Х., Д.Б.), из которого выделяются лишь указания, касающиеся вопросов подготовки служащих и управления школьным делом.
«Уложение» своей 1-й статьей четко определяет численность чиновников и обязанности писарей Палаты внешних сношений. Для их подготовки был применен специальный термин « государственные сыновья», детально указаны правила обучения и отбора в государственную службу, определены предметы, в числе которых значилось и военное дело. Так, например, относительно подготовки «государственных сыновей» в Чахаре Внутренней Монголии, мы находим указание о том, что «...для подготовки инструкторов-переводчиков [по монгольскому языку], в школу восьми хошунов ( знамен - Г.Х., Д.Б.) при министерстве по воспитанию государственных сыновей причисляется по одному человеку из каждого хошуна. В случае вакансии восполнить ее с приходом официальной бумаги министерства, из числа войск с жалованьем 3 -4 лана, если в списке экзаменующихся имеются таковые, которые отличались письменностью своей, то следует записать их имена и назначать по очереди по появлению вакансии» [4, с. 53].
Из цитированного указания явствует, что в деле подготовки чиновников для местного управления цинская администрация придерживалась политики обучения вначале из самих маньчжуров, создав специальное министерство, ведающее их делами. Также видно, что должность чиновников была строго лимитированной, так как речь шла о порядке восполнения вакансии. Основное внимание в обучении отводилось переводу с монголького языка и военной подготовке. Средства на обучение и жалованье учащихся выделялись из военного бюджета Цинского государства.
Есть факты о подготовке чиновников-переводчиков с русского и тибетского языков. При этом цинская власть весьма дифференцированно относилась к проверке степеней выпусников: если в целом учащиеся школы переводчиков русско-тибетско-монгольского языков проходили проверку раз в 5 лет, то монголов проверяли каждые 3 года. Такая разница объясняется не столько сопредельностью монголов, сколько тем, что для цинов Монголия являлась стратегически важной территорией. Переводчиков тибетского и монгольского языков отправляли на практику в Тибет и Монголию в сопровождении специально назначенных чиновников, а в случае плохой успеваемости обучаемых срок обучения продлевали еще на 2 года [4, с. 53-54.]. При этом переводчики русского языка не отправлялись в Россию, а, наоборот, обучались христианскими монахами в Пекине. Бывали случаи прохождения практики в Кяхте.
Подготовленные цинскими властями кадры работали в основном в различных департаментах Палаты внешних сношений, таких как канцелярия, палата церемоний, Департамент усмирения дальних стран, судебный и по делам перевода маньчжурско-монгольско-китайского языков. Помимо этого, они также распределялись в Монголию - в Улясутай, Кобдо, Ургу и Кяхту [4, с. 56-58], где, исполняя обязанности «государственных сыновей», занимались переписью населения и скота, регистрацией повседневных дел по сношению с центральной властью и императорами, переводом писем и бумаг с монгольского, русского и тибетского языков.
В дальнейшем, в связи с полным захватом Монголии и расширением подвластных Цинскому государству территорий, созданием наместничеств в Улясутае, Кобдо и Урге, появилась настоятельная потребность в увеличении численности служащих-чиновников и реорганизации дела подготовки кадров, что невозможно было осуществить силами одних только маньчжурских чиновников. К этому еще добавиласть задача привлечения местного населения ( монголов - Г.Х., Д.Б.) на цинскую службу, в связи с чем, начиная с 70-х гг. XVIII в., во Внешней Монголии стали основывать так называемые «служебные школы».
По имеющимся данным, первая такая школа была создана в 1767 г. при маньчжурском наместничестве в Кобдо, куда было набрано 20 мальчиков из олётов и мингатов, которые должны были учиться маньчжурской и монгольской письменности [1, с. 136-137]. Если исходить из того факта, что впоследствии ими управлял тайджи I-й степени, гун Цэвээнбалжир из Улясутайского гарнизона, есть основание полагать, что до 1768 г. в Улясутае также существовала школа [2, с. 19-20].
При этом совершенно очевидно, что цинские власти приступили к делу организации государственных школ во Внешней Монголии лишь после захвата Джунгарии и создания наместничеств в Урге и Кобдо.
По этому поводу архивные источники сообщают, что с 1670-х гг. в Монголии появилось несколько школ, которые призваны были подготовить чиновников для цинской администрации в стране. Так, в одном из посланий Хан-Ульского сейма Тушету хановского аймака, распространенном по хошунам в 1776 г., говорилось, что «...некоторые из писарей, несущие очередную административную службу [ жасаа ], пожалованы титулами и должностями. Другие в старческом возрасте и больные не могут быть полезными делу, вследствие чего число писарей в службе стало совершенно недостаточным, потому хошунам следовало бы по своему усмотрению выбрать с малых лет способных и покорных детей тайджей и аратов и обучить их за несколько лет при помощи образованных чиновников и писарей» [3, с. 10]. При этом цинами предполагалось обучать в школах не только детей простых аратов, но и также тайджей из рода Чингисхана. Иными словами, настоящим посланием было объявлено о создании в каждом хошуне государственных школ по подготовке чиновников . Архивные материалы свидетельствуют, что требование Цинского государства об организации школ в хошунах Внешней Монголии исходило не только из невозможности несения пожилыми людьми службы, а, наоборот, было связано со стремлением цинов установить через монголов связь с Россией и управлять населением монгольских хошунов. Непоследнюю роль в этом сыграло также отсутствие у маньчжуров возможностей служить вдали от родины продолжительный срок.
Вместе с тем из содержания цитированного источника видно, что монголы не очень торопились со школой. Они, под разными предлогами, в частности болезни и недомогания в неблогоприятных климатических условиях, уклонялись от службы и срывали дело, что являлось выражением отказа монголов от принудительной службы Цинскому государству.
Тем не менее цины стали добиваться своей цели, и создаваемые во Внешней Монголии школы первоначально обозначались как «подготовка писарей», а в дальнейшем приобрели название «школа», «служебная школа» и «школа чиновников» .
Под «служебной школой» мы подразумеваем школьное дело Внешней Монголии описываемого периода, так как «служебные школы»:
-
во-первых, отличались от традиционной формы обучения монголов;
-
во-вторых, создавались для подготовки чиновников-государственных служащих цинской администрации в Монголии;
в-третьих, организованное цинами школьное дело являлось своего рода формой повинностей для монголов. Поэтому эти школы могут считаться «светскими школами». Процесс их создания, осуществленный иностранным государством, и подготовка через них государственных служащих вызывают большой интерес.
За 1776 1781 гг., в нескольких хошунах Внешней Монголии, в частности, дзасака чин вана Чавагжава, Хэбэй гуна, дзасаков Чисүрэндоржа, Сүндэвдоржа, Цэвдэндоржа, Дэчинрампила и Үржинжав Хан-Ульского сейма были открыты школы, каждая из которых имела в своем составе от 2 до 10 мальчиков [5, с. 274-275]. Начиная с 1781 г. председателем Хан-Ульского сейма было установлено обучать мальчиков из хошунных школ маньчжурской письменности, для чего при очередной административной службе впервые была открыта «школа маньчжурской письменности», куда мобилизовались силы и средства, как, например, прислужники со своим довольством на 3 месяца. Сначала школа выпускала чиновников и писарей, овладевших монгольской письменностью, но очень скоро стала подготовливать переводчиков с маньчжурского языка и письменности, что явилось подтверждением выше отмеченных основных требований Цинского государства в деле подготовки чиновников в Монголии. При этом цинскими властями не был обнародован специальный Устав для служебных школ Внешней Монголии, потому дело регулировалось «Законом Палаты внешних сношений» [4, с. 53-54]. Но конкретные меры реализовались хошунным управлением. В связи с этим следует подчеркнуть, что монгольские хошунные дзасаки проявляли интерес к обучению самих монголов делам государственной службы, поскольку им, естественно, удобнее и легче было вести дела через своих обученных монголов, нежели маньчжурских чиновников.
С середины XIX в. в связи с расширением русско-цинских отношений в служебных школах активизировалось обучение маньчжурскому языку и письменности. Так, источник гласит, что «...с недавных времен все больше и больше стало дел, связанных с Россией, в отношениях с которой следует применять маньчжурскую письменность. В этом деле большие усилия прилагают цинские чиновники, а монгольские же затрудняются оказать какую-нибудь пользу» [3, с. 45]. Далее упоминается о создании в хошунах школ маньчжурской письменности. Также сказано о мерах по назначению чиновников, призванных обучать маньчжурской письменности.
К описываемому времени обучение монголов военному делу было полностью запрещено цинами, и Цинское государство всю свою деятельность направляло на создание школ, выпусники которых с освоением маньчжурской и монгольской письменности готовились для государственной службы. При этом не было специальных уставов и правил по их организации.
Согласно указам цинских императоров, ссылавшихся на «... нехватку писарей и потому на особую полезность обучения малолетних детей маньчжурской и монгольской письменностям для аймаков, в особенности для хошунов» , с 1786 г. Хан-Ульский сейм организовал у себя школу, для чего из каждого хошуна направлялись 2 мальчика сроком на 6 месяцев. Школа эта просуществовала до 1790 г.
За этот период из обучаемых детей лишь немногие, постигшие азы маньчжурской и монгольской письменности, направлялись работать в канцлярию наместничества, а остальные хотя и не научились письменности маньчжуров, но возвращались в родные места с достаточным знанием монгольской письменности. Несмотря на то, что школа не могла продолжать в дальнейшем свое существование, все же было приказано проводить с июня 1790 г.,обучение маньчжурской и монгольской письменности во всех хошунах [5, с. 275].
Школа маньчжурской письменности была создана и при Ургинском наместничестве. Имеются сведения об организации Ургинским наместничеством обучения монгольской письменности во всех постоянных станциях 14 курьерских уртонов Халхи в 1811 г., каждая из которых предоставляла по 4 человека. Также в октябре 1898 г. была создана еще одна «служебная школа» с набором детей князей, хошунных чиновников и аратов Тушетухановского и Сэцэнхановского аймаков, на которую возлагалась задача обучения монгольской и китайской письменностям. Все расходы школы брали на себя 2 аймака и Шаби, выделяя ежегодно 600 лан серебра [3, с. 95].
В деле организации служебных школ во Внешней Монголии цинские власти прежде всего руководствовались тем, чтобы создать условия подготовки местных кадров в каждом из аймачных сеймов, хошунных управлений и уртонных дворов, что естественно явилось политикой, нацеленной на снабжение чиновничьей службы силами и средствами монгольских хошунов. Так например, все расходы, связанные с обучением детей маньжурской письменности, которых после хошунной школы направляли на 3 месяца на постоянную службу, несли местные управления. Помимо этого, привлечение малолетних монголов в школы, вероятнее всего, было связано с формированием у них верности цинской политике, а соответственно и с признанием ее.
Нахождение школьного дела и подготовка писарей в ведении хошунного управления в дальнейшем не могло удовлетворять потребности общества, чему способствовало, с одной стороны, расширение китайской торговли в Монголии, в особенности появление многочисленных торговых фирм в Урге, Кяхте, Кобдо и Улясутае, а с другой, повсеместное влияние китайцев в государственных делах Цинской династии и ведение его на двух языках маньчжурском и китайском.
Данное обстоятельство и привело к организации служебных школ маньчжурского и китайского языков в Монголии с середины XIX в. Их потребности приказано было полностью удовлетворять местным населением, так как школы создавались при постоянной административной службе [3, с. 46]. Поэтому настоящие школы, появившиеся на закате Цинской династии, в архивных источниках значатся как «школы обучения и содержания». Такое название исходило из того, что все расходы взимались исключительно с хошунных аратов. Следует отметить, что подготовка переводчиков китайского языка и чиновников канцлярии была делом, требующим времени, сил и средств, потому удовлетворение всех их потребностей хошунами естественно повлекло за собой уклонение монголов от этой службы.
Наряду с этим в 1890-х гг. возникла необходимость и в организации школ русского языка, которые призваны были направить свою деятельность на подготовку чиновников для ведения дел, связанных с русскими, которые учредили свое консульство в Монголии и занимались торговлей. Однако дело только начиналось, и численность русских школ была незначительной. Иными словами, в зависимости от целей и задач государства деятельность цинов расширялась, приобретая все больший размах.
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
-
1. Прослеживая политику и деятельность Цинского государства по вопросам школьного дела в Монголии, можно выделить два периода:
-
2. Осуществляемая Цинским государством организация служебных школ во Внешней Монголии была продиктована самой его политикой и в случае приемлемости монголами, живущими в специфических условиях кочевой жизни, могла достичь цели упрочения власти в стране. Поэтому цинам в какой-то мере приходилось согласовывать свои действия с бытом и условиями жизни монголов.
-
3. При этом, если в поверхностном рассмотрении деятельность «служебных школ» без установленного аудиторного обучения может показаться слабо организованной и малорезультативной, в более детальном рассмотрении можно оценить ее как верную политику, вполне соответствующую монгольским условиям.
-
4. Вместе с тем, создание так называемых «служебных школ» на средства самих монгольских хошунов, может определяться как одна из форм повинностей монголов Цинскому государству, так как покрытие их расходов полностью ложилось на монгольские хошуны. Поэтому монголы уклонялись как от обучения, так и от покрытия расходов, что одновременно можно также объясниться нежеланием монголов служить Цинскому государству.
первый: с середины XVIII до середины XIX в., или период «служебных школ», по подготовке чиновников для ведения дел на маньчжурском и монгольском языках;
второй: с середины XIX до начала ХХ в., или период « школ обучения и содержания» , которые выпускали чиновников для ведения дел на маньчжурском, китайском и русском языках.