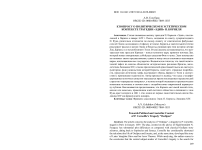К вопросу о политическом и эстетическом контексте трагедии "Эдип" П. Корнеля
Автор: Голубков Андрей Васильевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (49), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу трагедии П. Корнеля «Эдип», поставленной в Париже в январе 1659 г. Пьеса, созданная по совету суперинтенданта Н. Фуке, разительно отличается по своему сюжету от классических фабульных схем об Эдипе, восходящих к Софоклу и Сенеке. Корнель в значительной степени редуцирует рассказ о жизни Эдипа и Иокасты, развивая при этом историю дочери Лая, Дирцеи, и ее возлюбленного Тезея. В ходе анализа устанавливается, что центральная тема трагедии Корнеля - поиск истинного царя, кровного потомка Лая, который может пожертвовать собой ради спасения Фив от чумы: Эдип изначально не понимает своего предназначения, однако к концу пьесы становится настоящим царем, воплощающим все государство. Выдвигается гипотеза, что такой политический пафос во многом объясняется историческими реалиями Фронды, малолетством Людовика XIV, а также прагматической ориентацией пьесы на светскую аудиторию, ради удовольствия которой Корнель «смягчает» страшные подробности, присущие античному мифу, выстраивает образы Дирцеи и Тезея в соответствии с принципами галантности. Автор приходит к выводу, что пьеса с модифицированным античным сюжетом оказывается ярким воплощением переводческой стратегии «прекрасные неверные», в основе которой оказывается прагматическое изменение источника в соответствии с потребностями современной переводчику публики. Высказывается предположение, что Корнель мог своей пьесой стать, вольно или невольно, проводником идей светского общества и связанного с ним Фуке, арест которого в 1661 г. стал одним из первых самостоятельных шагов Людовика XIV как французского монарха.
Франция, классицизм, эдип, п. корнель, людовик xiv
Короткий адрес: https://sciup.org/149127162
IDR: 149127162 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00049
Текст научной статьи К вопросу о политическом и эстетическом контексте трагедии "Эдип" П. Корнеля
В 1653 г, после провала трагедии «Пертарит», Корнель, обиженный холодным приемом публики, покинул Париж и переехал на родину в Руан, где посвятил себя сочинению «Подражаний Иисусу Христу», а также размышлениям о специфике драматического искусства и комментированию Аристотеля. К этому моменту уже написаны пьесы, составившие ему огромную славу - «Сид», «Гораций», «Цинна», «Полиевкт», «Никомед». Спустя 6 лет, в год пятидесятилетия, Корнель получил от тогда все еще всесильного суперинтенданта Н. Фуке приглашение вернуться на сцену с мифологическим сюжетом об Эдипе. Корнель принял предложение и быстро создал трагедию, первое представление которой, состоявшееся 24 января 1659 г, имело оглушительный успех. Спустя 2 недели, 8 февраля, в Бургундском отеле пьесу посмотрела королевская семья; 10 февраля была получена королевская привилегия на издание; 26 марта пьеса была напечатана и появилась в продаже. Популярность корнелевского «Эдипа» была огромной, пьеса шла с большим успехом вплоть до 1719г. (по некоторым данным, в общей сложности было дано более 500 представлений), когда в репертуаре «Комеди Франсез» была заменена «Эдипом» вольтеровским.
Несмотря на шумный успех пьесы, сопоставимый с «Сидом» и превосходящий популярность «Полиевкта», традиционно «Эдип» не рассматривается в качестве высшего достижения французского драматурга, представая «некорнелевской» пьесой. Связано это с тем, что традиционно за Корнелем закрепилась слава драматурга, преимущественно черпавшего свои сюжеты, в отличие от Расина, не в мифологическом материале, а из событий менее знакомой зрителям легендарно-исторической действительности, будь то римской или средневеково-европейской. Выбор легендарной тематики, естественно, предопределял манеру читательского и зрительского напряжения, исторический сюжет неизбежно отвлекал зрительское внимание от характеров главных героев, которые, в сущности, в ранних пьесах Корнеля оставались раз и навсегда заданными - «глыбами», со-270
стоящими из добродетелей. Такие герои, согласно ремаркам самого Корнеля, «не тщились вызвать сострадание», обладая фактически нулевым потенциалом развития: отсюда и внешний характер конфликта в такого рода пьесах. Мифологический сюжет, характерный скорее для более позднего Расина, предполагал, во-первых, в корне иную стратегию зрительского рецептивного ожидания, основанную не на потреблении сюжета, который был досконально известен, а на слежении за внутренним миром героя, безуспешно борющегося с не контролируемой им самим страстью или же провидением. Во-вторых, мифологический метаязык неизбежно в силу своей универсальности вызывал стремление угадать за персонажами и фабулами реальных современников и отношения между ними.
В разное время миф оказывается способом проговорить то, что часто невозможно сделать с помощью обычного языка, в связи с чем с каждой новой эпохой известное предание обрастает шлейфом коннотаций, в которых неизбежно запечатлевается точка зрения, сформированная сложившимися в данную эпоху культурными стереотипами и потребностями. Судьба античного мифа об Эдипе, в этой связи, в высшей степени показательна тем обилием реплик и экспликаций, что появились в последние полтора века. Пресловутый заявленный фрейдизмом «эдипов комплекс», объясняющий рождение сексуальности и стремления к власти; «анти-Эдип», толкующий миф об Эдипе как выдумку «отца», предназначенную для легализации примененных с его стороны техник насилия и деспотизма в отношении «сына»; легитимация внедрения судебных практик и способов установления истины, включающих в себя дознание, сбор свидетельских показаний и прочие достижения дисциплинарного режима. Можно бесконечно рассуждать о парадоксальной необходимости предания об Эдипе для европейской культуры, на разных этапах умело адаптирующей античный источник к собственным, подчас сиюминутным, потребностям. Заимствовав по инициативе Н. Фуке сюжет из античных источников, Корнель неизбежно втянулся со своей пьесой в круг проблем, касающихся свободы воли и судьбы, однако он в значительной степени развил мотивы, касающиеся порядка власти, легитимности монарха, преемственности и престолонаследия. Отечественному читателю пьеса, скорее всего, неизвестна, поэтому для формулировки некоторых соображений логично воспроизвести ее содержание, которое расходится с привычными античными источниками (прежде всего текстами Софокла и Сенеки).
Первым бросающимся в глаза отклонением от традиционного античного сюжета оказывается выбор главных действующих лиц, коими оказываются не Эдип с Иокастой, но Дирцея (сестра Эдипа) и ее возлюбленный Тезей. 1-й акт открывается описанием чумы в Фивах, где уже 16 лет после смерти Лая царствует Эдип, олицетворяя собой тип слабого, излишне рефлексирующего, неуверенного в себе правителя, который, опасаясь за собственную власть, притесняет падчерицу (и сестру) Дирцею, дочь Лая и Иокасты, запрещая ей выйти замуж за афинского царя Тезея. Как и в античном мифе, Фивы опустошаемы чумой, но ее причины оракулы нове- дать отказываются. Во 2-м акте появляется тень Лая, взывающая к своим детям принести себя в жертву во имя спасения города. Уверенная в том, что она единственная дочь Лая, Дирцея вызывается принести в жертву себя. В 3-м акте Эдип узнает, что сын Лая жив и предпринимает попытки разыскать его. В то же время Тезей, возлюбленный Дирцеи, во имя ее спасения признается, что он-то и является потерявшимся сыном Лая. Иокаста, а вслед за ней и Эдип, отказываются верить Тезею, считая его самозванцем. В 4-м и 5-м акте Корнель возвращается к античной канве: Эдип, наконец, осознает, что он является сыном и убийцей Лая.
Акценты трагедии Корнеля, как видим, существенно смещены по сравнению с античными первоисточниками. Как справедливо замечал В.П. Большаков, «у зрителя возникает впечатление, что все события, связанные с главной линией сюжета у Софокла: отцеубийство Эдипа, инцест, чума - все это у Корнеля существует только для того, чтобы быть окаймлением и задержкой для сюжетной линии Дирцеи и Тезея» [Большаков 2001, 225]. Тема судьбы и роковой предопределенности у Корнеля отходит на второй план, уступая место мотивам легитимной власти, воплощаемой настоящим царем, который, жертвуя собой, спасает всю нацию. Античный сюжет оказывается формой упаковки актуального Корнелю и, заметим, суперинтенданта Фуке политического дискурса, матрицей, вмещающей актуальное содержание: главный вопрос Корнеля - где и как найти истинного царя, чья жертва будет принята и чья пролитая кровь сможет спасти страдающий и обреченный город. В условиях изначальной слабости Эдипа на роль заместительной жертвы «пробуются» Дирцея и, как мы уже видели, Тезей. При живом Эдипе, таким образом, на Фивы обнаруживаются еще 2 претендента. Насущно необходимо найти того, кто в действительности является потомком Лая, т.е. того, в ком больше его крови. Дирцея, предполагая именно себя истинной хранительницей царской крови, восклицает:
Mourir pour sa patrie est un sort plein d’appas <.. .>.
Admire, peuple ingrat, qui m’a desheritee, Quelle vengeance en prend ta princesse irritee, Et connais dans la fin de tes longs deplaisirs Ta veritable reine a ses derniers soupirs <.. .>. Sauve-toi de la peste aux depens de mon sang [CEdipe 2004, 30-31].
«Умереть за свою родину - великое дело <.. .>. Восхищайся же, неблагодарный народ, лишивший меня трона, той жертве, что приносит во имя тебя обреченная дочь царя, и обрети же после череды страданий истинную свою царицу в ее предсмертных воздыханиях <...> Спасайся же от чумы ценою моей крови» (акт 2, сцена 3).
Мотивы жертвы и крови оказываются доминирующими в тексте. Когда Мегара, конфидентка Дирцеи, сомневается в необходимости такого кро-272
вопролития, Дирцея резко ее обрывает: «N’appelle point injuste un trepas legitime» [CEdipe 2004, 31] - «Не смей называть неправедным это законное жертвоприношение» (акт 2, сцена 3).
Колеблющийся Эдип заявляет Дирцее, что, если воззвание тени Лая было понято некорректно, то Дирцея может погибнуть зря, те. ее жертва не будет «зачтена»: «Mais vous pourriez mourir et perdre votre mort» [CEdipe 2004, 42] - «Вы можете умереть и потерять свою смерть» (акт 3, сцена 3).
Эдип намекает, таким образом, на собственные амбиции или же свое предназначение стать той жертвой, которая спасет государство. Фактически герои Корнеля обосновывают ту концепцию царской власти, которая сложилась во Франции и получила позднее название «два тела короля». Согласно этой концепции, монарх совмещает в себе два тела - человеческое и сверхиндивидуальное, божественное, воплощение страны, всей плоти народной. Божественное тело никогда не умирает, оно всегда присутствует, немедленно при смерти «человеческой» оболочки воплощаясь в естественную плоть царского наследника. Этот переход впоследствии санкционируется обрядом помазания на царство, однако только лишь санкционируется - коронация не может сделать королем того, кто не имеет права быть таковым, кто не является первым в списке наследников. Как писал Э. Канторович, комментируя один из средневековых документов: «Это политическое тело не только «более обширно и велико», чем тело природное; в нем еще таятся некие воистину мистические силы, уменьшающие или даже вовсе устраняющие несовершенства слабой человеческой природы» [Канторович 2015, 77]. Поиск такого наследника-спасителя фактически оказывается главной темой Корнеля, заменившего ею софоклов-скую тему противостояния судьбе, обреченного на поражение. Эдип в таком случае в действительности стал царем в момент совершенного им же убийства Лая и оставался таковым на всем протяжении своего правления, он и должен стать жертвой, однако в тот момент, когда Дирцея, кровная дочь Лая, готовится к закланию, Эдип еще не знает о том, кто он в действительности (полагая, что всего лишь тот, кто женился на царице), отсюда его робость и неуверенность.
Поиск жертвы, способной излечить весь город и спасти всю нацию, оказывается, в итоге, сюжетным ядром трагедии. Дирцея, «примеряя» на себя роль жертвы, разговаривает с Иокастой уже не как дочь, но истинная царица, в которой течет кровь Лая:
Pardonnez cependant a cede humeur hautaine: Je veux parler en fille, et je m’explique en reine.
Vous qui 1’etes encore, vous savez ce que c’est <.. .> Le trone a d’autres droits que ceux de la nature. J’en parle trop peut-etre alors qu’il faut mourir. Hatons-nous d’empecher ce peuple de perir;
Et sans considerer quel fut vers moi son crime, Puisque le ciel le veut, donnons-lui sa victime [CEdipe 2004, 40].
«Простите мне гордыню, я желала б говорить как дочь, но изъясняюсь как царица. Вы царица, Вы сможете меня понять <.. > Трон дает иные права, чем те, что даны от природы. Пресечем же смерти этого народа, забудем все его несправедливости в мой адрес и воздадим небу ту жертву, какую оно просит» (акт 3, сцена 3).
Заметим, схожие претензии появляются у Тезея, который притворяется убийцей Лая, претендуя, подобно Дирцее, на роль истинной жертвы в разговоре с той же Иокастой. Первоначально Эдип в корнелевской версии сюжета не понимает «кровного» характера власти, жалуясь на Тезея, упрекнувшего его в слабости:
Si je suis roi, Cleante! Et que me croit-il etre?
Cet aman de Dirce deja me parle en maitre!
Vois, vois ce qu’il ferait s’il etait son epoux
[CEdipe 2004, 17].
«Царь ли я, Клеант! Что заставит меня поверить в это? Этот ухажер Дирцеи общался со мной как повелитель. Увидишь, что он еще наделает, когда станет ее супругом!» (акт 1, сцена 3).
В разговоре с Эдипом Тезей, не смущаясь, ставит под сомнение его статус: «Si vous etes roi, considerez les rois» [CEdipe 2004, 17] - «Если же вы царь, то будьте на царей похожи!» (акт 1, сцена 2).
Дирцея без смущения упрекает Эдипа в том, что тот является узурпатором, несправедливо находящимся у власти, которая по праву принадлежит только ей:
Sans rien approfondir, parions a cceur ouvert.
Vous regnez en ma place
[CEdipe 2004, 25].
«Скажем откровенно, не углубляясь в детали, Вы царствуете вместо меня» (акт 2, сцена 1).
Поведение подданных решительно меняется после того, как Эдип узнал свою родословную, осознал себя царем по крови. Он произносит в разговоре с Форбасом:
Et ma perte a 1’Etat semble etre necessaire, Puisque de nos malheurs la fin ne se pent voir Si le sang de Laius ne remplit son devoir [CEdipe 2004, 59].
«Моя гибель, кажется, необходима государству, ибо несчастья наши прекратятся лишь если кровь Лая исполнит должное» (акт 4, сцена 4).
Следом в финале монарх восклицает, что «пора приговорить себя ради спасенья всех» (акт 5, сцена 5), понимая, что только жертва истинной царской крови гарантирует спасение всей плоти государства. Софоклово «узнавание-во-имя-себя» трансформируется в корнелево «узнавание-во-имя-всех»; Эдип оказывается легитимным монархом, истинным царем, а не самозванцем, таким образом, его ослепление - не признание поражения в битве с роком, но подтверждение жертвенной ответственности и высокого статуса, фактически истинное помазание. В итоге, кровь из зениц Эдипа спасает Фивы:
Се sang si precieux touche a peine la terre, <.. .>
Et trois mourants gueris an milieu du palais
De sa part tout d’un coup nous annoncent la paix [CEdipe 2004, 77].
«Едва лишь драгоценная кровь коснулась земли, <...> как трое умирающих излечились во дворце и провозгласили вдруг всем нам наступление мира» (акт 5, сцена 9).
У Корнеля образ Эдипа, как и образ Дирцеи, оказывается не заданным изначально. Такая подвижность идентичности роднит этих героев отнюдь не с корнелевскими Сидом или Горацием, а скорее с расиновской Федрой или Гофолией. Эдип испытывает постоянную тревогу, слишком много рефлексирует:
Et I’enigme du Sphinx fut moins obscure pour moi, Que le fond de mon cceur ne I’est dans cet effroi [CEdipe 2004, 45].
«И та Сфинксова загадка была не так темна, как глубины сердца моего в этом ужасе» (акт 3, сцена 5).
Открытие той истины, что он, будучи царем, не может из-за своего высокого предназначения самостоятельно конструировать свою судьбу (за него это делают другие силы - нации, рода, Бога), меняет Эдипа, делая его истинным царем. Фактически, Эдип к финалу свершает то, на что были неспособны расиновские персонажи, погубленные своей страстью; если изначально он испытывал сомнения в легитимности, был нерешительным и безвольным, то открытие истины превратило его в истинного царя.
В предисловии к «Эдипу» Корнель признавался, что ни одна из его пьес не содержала столько мастерства, сколько было вложено в «Эдипа»; мастерство это состоит по большей части в эстетической ревизии исходного сюжета. На примере анализа текста очевидной оказывается классическая «вульгаризаторская» практика французского XVII в., состоящая в превращении античного наследия в удобный сборник цитат, материал для ведения того идеологического дискурса, который отвечает актуальным установкам. В своем предваряющем трагедию «Разборе» («Ехашеп») Корнель признается что античный сюжет слишком прост и сух, поэтому он не дотягивающий до трагедии сюжет посчитал возможным обогатить «галантным эпизодом о Тезее и Дирцее», ибо «трагедия лишилась бы привлекательности в общественном мнении из-за изгнанной из нее любви» [CEdipe 2004, 8]. Дабы сбалансировать «чистейшую сухость» Софоклова текста, Корнель поступает вполне по-светски, лишая трагедию завораживающей жестокости и брутальности греческого первоисточника. Трагедию можно рассматривать как яркую иллюстрацию господствовавшей в течение XVII в. во Франции стратегии усвоения и применения в собственных интересах античного наследия, получившей название «belles infideles» (т.е. «прекрасные неверные»). Согласно этой теории, детально описанной в монографии Р. Зюбера [Zuber 1995], перевод или пересказ древнего текста становился переложением, намеренно отдаленным от оригинала; переводчик должен был стать «улучшителем» исходного текста, избавив его от неприличного языка, недостойных сцен, т.е. приспособив его под вкусы читающей публики, современной переводчику, для того, чтобы суметь вызвать те же эмоции, ассоциации, настроения, что возбуждал текст в той эпохе, которой он был порожден. Такая модель перевода, превращающаяся в переложение, была в высшей степени востребована читательской аудиторией; переводчик сознательно стремился угодить публике.
Избирая в качестве целевой аудитории светское общество, Корнель, в молодости активно посещавший кружок госпожи де Рамбуйе, ориентируется на модель светской беседы, основанной на принципе благопристойности. В условиях почти безусловного господства в XVII в. аудированного типа чтения (т.е. вслух) и неразвитости артикулированного (т.е. про себя, внутреннего) знакомство с античным текстом, тем более публичное, неизбежно превращалось в акт прямой коммуникации и было сродни беседе. Игнорирование правил такой беседы могло привести к отказу от коммуникации, непониманию, в силу этого переводчику неизбежно приходилось подправлять произведение, превращая текст в реплику диалога, которую мог бы произнести античный автор в качестве достойного и равноправного собеседника. Изображаемые Корнелем герои - отнюдь не варвары, они вполне соответствуют духу галантного «вежества». Корнель опускает «жестокие» детали биографии Эдипа, не сообщает, например, о том, что ноги ребенка были связаны. Апофеозом корнелевой галантности становится поведение Тезея, истинного галантного придворного, который в 3-м акте ради спасения своей возлюбленной признается в том, что именно он является сыном Лая. Причины подобного вымысла Корнеля, как кажется, очевидны: он стремится создать образ антипода Эдипа, который умеет себя вести в соответствии с нормами благопристойности, принятыми в светском салоне: образ корнелевского Тезея был включен в качестве примера учтивости в «Словарь прециозниц» А. Бодо де Сомеза, вышедший в 1661 г, в том же издании указывалось, что одна из светских дам, го- спожа де Эсклюзель, выбрала себе в качестве псевдонима имя «Дирцея» [Duchene 2001, 458].
Напомним, что премьера «Эдипа» состоялась в январе 1659 г, когда прециозное движение, в которое входили наиболее яркие и образованные дамы того времени, было, что называется, на высоте; его закат начинается после представления комедии Мольера «Смешные прециозницы», состоявшей 17 ноября того же 1659 г; мы уже писали о том, что «закат преци-озниц обыкновенно усматривают в 1660 г, когда был фактически закрыт салон Скюдери» [Голубков 2017, 207]. На светскую, в том числе прециоз-ную, публику, вне всяких сомнений, и была рассчитана пьеса Корнеля -как по своим эстетическим установкам, так и по политическому подтексту. Вспомним, что салонные круги отличались фрондерством и симпатией к Фуке, который, собственно, и стоял за спиной Корнеля в выборе сюжета о поисках истинного царя-спасителя. Как думается, посмотревший пьесу двадцатилетний Людовик XIV, помнивший недавно закончившуюся фронду принцев, по-своему мог понять ее прагматику: через 2 с половиной года, 5 августа 1661 г, Фуке будет арестован. 1 августа 1664 г. при дворе в Фонтенбло будет поставлена пьеса Корнеля «Отон» на исторический сюжет о том, кто же возглавит Рим после Гальбы - Отон или Пизон. Сомнений в истинном монархе уже не возникает: Корнель воздал хвалу Отону в образе которого вся публика покорно и с удовольствием узнавала Людовика XIV. Заметим, что популярность трагедии «Эдип» в это время не идет на спад, однако тот пафос, который в нее, возможно, изначально вкладывал Фуке и симпатизирующие ему группировки, уже не таил никакой опасности для Короля-Солнце.
Список литературы К вопросу о политическом и эстетическом контексте трагедии "Эдип" П. Корнеля
- Большаков В.П. Корнель: жизненный и творческий путь. М., 2001.
- Голубков А.В. Прециозность и галантная традиция во французской салонной литературе XVII века. М., 2017.
- Канторович Э.Х. Два тела короля: исследование по средневековой политической теологии. М., 2015.
- Duchêne R.Les précieuses ou Сomment l’esprit vint aux femmes.Paris, 2001
- ffidipe: Corneille, Voltaire / textes etablis, introduits et annotes par D. Reynaud et L. Thirouin. Saint-Etienne, 2004.
- Zuber R. Les "belles infideles" et la formation du gout classique. Paris, 1995.