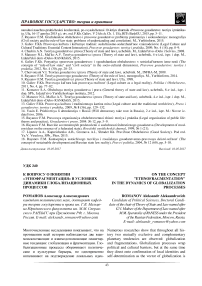К вопросу о понятии "этнофрагментация" в условиях динамики глобализационных процессов
Автор: Романов Александр Александрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (48), 2017 года.
Бесплатный доступ
Многочисленные исследования показывают, что на протяжении всей истории наблюдаются две взаимоисключающие и взаимодополняющие планетарные тенденции: глобализация и фрагментации. Глобализационные процессы оборачивают политические и культурные барьеры, но одновременно наталкивают на подтверждение локальных идентичностей и самоопределения, так как вектор глобализации нацелен на стирание этнонациональной сущности вообще, делегитимации традиционных правовых норм и этнических ценностей, правовой унификации, упразднение самобытных правовых культур и границ между правовыми системами. В процессе социальной эволюции в равной мере происходит не только унификация и стандартизация этнического, но и имеет место закономерная контрпозиция. Происходит процесс дифференциации различных цивилизационнных структур и элементов. Усиливается центробежная тенденция отторжения между отдельными фрагментами и социумами, разобщения ряда систем и структур разного уровня жизнедеятельности человеческого рода, которое выступает в форме этнофрагментации.
Глобализация, фрагментация, этничность, этнонация
Короткий адрес: https://sciup.org/142233874
IDR: 142233874 | УДК: 340
Текст научной статьи К вопросу о понятии "этнофрагментация" в условиях динамики глобализационных процессов
Во всей истории существования человечества наблюдаются две взаимоисключающие и взаимодополняющие тенденции, которые иногда следуют друг за другом, а иногда сопутствуют друг другу, тем самым демонстрируя дифференцированное тождество, диалектику целостности через многообразие посредством разделенного единения на полюсах. Вполне можно согласиться с утверждением Н.Н. Моисеева, что процессы дезинтеграции и интеграции непрерывно взаимовлияют и взаимодействуют на протяжении всей истории цивилизации, и «их противоречивость непрерывно рождает новые формы организации жизни» [1, с. 97]. Ни история, ни теория не дают оснований для вывода об однонаправленном слиянии и о неуклонном исчезновении этнических, территориальных, конфессиональных и других различий, о радикальной унификации фундаментальных основ мировоззрения.
Характерно, что подобная конвергенция предполагала релевантность установления повсеместного мира и правового режима свободной торговли во всем мире при сохранении этнических и правовых особенностей, многообразия Европы – «не приобретение власти государства, а лишь поддержание и обеспечение свободы каждого государства» [2, с. 19], сложение единой большой политической системы, Соединенные Штаты Европы (United States Europe), в которых каждое государство заняло свое место [3].
Несмотря ни на что, мир остается многолик и многоукладен. Европейский Союз и ныне остается альянсом суверенных наций-государств, все усилия по преобразованию его в единую федерацию, выработать политические принципы и соответствующие юридические механизмы, обеспечивающие амортизацию тенденции фрагментации и сепаратных интересов, встречают сильнейшее воспротивление. В прошедшем 12 июня 2008 года референдуме в Ирландии большинство проголосовало против ратификации Лиссабонского договора. Несмотря на объективные экономические выгоды политико-правовой интеграции, в невиданных масштабах проявляются центробежные устремления и незатухающие движения к самоопределению в Испании (Каталония, Страна Басков), Италии (проблема севера и юга, Южный Тироль), Бельгии (фламандцы и валлоны), Франции (Корсика), Шотландии, Баварии, Великобритании и пр. На опрос общественного мнения, проведенного компанией ICM, «хотят ли британцы, чтобы Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии распалось, например, на северную Ирландию, Англию, Уэльс, Шотландию», большинство стран высказалось положительно: в Шотландии, например, за независимость проголосовало 52% респондентов, категорически были против – только 35%; в «метрополии» 59% жителей поддержали отделение северных соседей [4]. Между тем на референдуме о независимости Шотландии, прошедшем 18 сентября 2014 года, на котором имели право участвовать 4,13 млн. граждан Соединенного Королевства и ЕС старше 16 лет, постоянно проживающих в Шотландии, большинство избирателей (около 53,3%) проголосовали против независимости. Опрос британцев, проведенный по заказу газеты The Financial Times, одной из ведущих британских социологических организаций по мониторингу общественного мнения Populus, показал, что 53% британцев «за» выход из Европейского союза [5]. Если консервативная партия одержит победу на выборах в британский парламент в 2015 году, то к концу 2017 года намечается проведение референдума о членстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ЕС [6]. В сентябре 2013 года Исландия приостановила переговоры, а с февраля 2014 года вовсе отозвала заявку на вступление в ЕС [7]. Многочисленные исследования показывают, что набирающая темпы глобализация современного мира парадоксальным образом сопровождается его фрагментацией, которая представляется как функциональная контртенденция общепланетарного процесса глобализации.
Глобалисты считают, что глобализация – это превращение планеты в единое мондиа-листское политико-правовое, информационное, экономическое пространство, управляемое ТНК и мировой финансовой олигархией, а всякая попытка жить обособленной, отдельно взятой цивилизацией есть не более чем самообольщение [8]. По словам генерального директора ЮНЕСКО, в 1999–2009 годах Коитиро Мацуура уже в наши дни каждые две недели навсегда исчезает один из 6.800 языков 1 , на которых говорят ныне на нашей планете, и к концу XXI в. 90% из них могут исчезнуть навсегда 2 . По мнению П. Шабаева, если даже конкуренция языков и культур имела место всегда и не глобализация их породила, то бесспорно, что она интенсифицировала эти явления» [9, с. 174]. Делаются выводы, что рождается неминуемая необходимость общемирового универсального языка, на роль которого все больше претендует английский. Антиглобалисты, или, как их называют некоторые исследователи, – современные мировые диссиденты [10, с. 295], с позиции традиционного рационализма рассматривают современную модернизацию как агрессивную вестернизацию, несущую опасность незападному миру [10, 294]. В таком ракурсе мир представляется как некая детерминированная системная замкнутость [10, с. 294]. Многие считают, что глобализация является «раковой опухолью», превращающей мировое сообщество в нечто усредненное, в конгломерат индивидов, «человеческую пыль», и выступают против интенсивного вторжения «аморальных» принципов в область «священных этнонациональных ценностей». С такой позиции предполагается, что основной вектор глобализации нацелен на стирание этнонациональной сущности вообще, делегитимации традиционных правовых норм и этнических ценностей, правовой унификации, упразднение самобытных правовых культур и границ между правовыми системами [11, с. 10].
В условиях неизбежно растущего взаимовлияния и ликвидации изоляции государств эт-ничность, локальный партикуляризм выступает как основное препятствие во взаимосближении и интеграции, в межличностном и межпрофессиональном, межэтническом и межнациональном общении, обмене общечеловеческой информацией, естественном сближении людей. Возрастающая глобальная интеграция разрывает изоляцию людей, народов и культур, ломает старые локальные региональные барьеры, ценности и образы жизни, унифицирует к общему стандарту социальные нормы, правовые обычаи и политические институты. В таких условиях более или менее завуалированная этнонационализированная общность становится насущной проблемой. Правда, как доказывает О.А. Бельков, актуализация этнонационализма не является фактором, который находится в непосредственной системной оппозиции к глобализации. Этнонационализм слит с глобализацией, но он выступает как вызов не процессам глобального развития, а властно-правовым позициям бюрократии, неспособной к политико-правовому рациональному поведению в кардинально изменившихся условиях. Как пишет О. Дольфюс, глобализация – это

не только открытие границ, но и закрытие, так как метапространства глобализационных процессов развиваются «по своим собственным законам» [12, с. 116].
Парадоксальность состоит в синхронном протекании двух процессов, имеющих противонаправленный характер: глобализации и фрагментации. С одной стороны, происходит утверждение глобального мегаобщества, за счет повсеместного распространения, сходных черт, едва ли не универсальных стандартов образа жизни и правовых норм, с другой стороны, набирает обороты перманентное стремление человека приспосабливаться к спектру вызовов социокультурной унификации и правовой, политической и экономической экспансии. Тенденции противоположной направленности в той или иной интенсивности наблюдаются во всех сферах социальной среды. Происходит не только свободное перемещение идей, товаров, услуг и капиталов из неких центров в остальные страны, но и имеет место диаметрально противоположная тенденция на разных уровнях общественной жизни. Было бы неправильным рассматривать мир как однополюсную политико-правовую и экономическую систему с американским центром, игнорируя при этом Россию, Японию и развивающиеся центры в СевероВосточной и Юго-Восточной Азии. Вообще, знакомство с некоторыми тенденциями глобального развития заставляет критично оценивать аксиоматичные умозаключения относительно его направлений: нации-государства вовсе не утратили суверенитета и действенно влияют на трансграничные корпорации, довольно часто пускают в ход юридический иммунитет внеэкономического принуждения, заставляя их перестраивать свои планы; «агенты глобализации» начали относиться к экосистеме более прилично, чем «национальный бизнес»; национальные границы и барьеры политической системы отнюдь не утратили свой авторитет и юридическую значимость; процессы глобализации не так уж и неконвертируемые [13].
В американских авторитетных исследованиях глобализации доказывается, что глобализационные процессы оборачивают политические и культурные барьеры, но одновременно наталкивают на подтверждение локальных идентичностей и самоопределения [14, p. 5]. На личностном и коллективном уровне глобализация воспринимается как «угроза дальнейшему существованию, которая преодолевается посредством призыва к возвращению к традиционным формам общности», – пишет Урс Альтерматт [15, с. 214–216].
К ускоренному восприятию глобализации, плотной насыщенности глобальных потоков культурной инновации рациональный индивид, как самый открытый и чувствительный к разного рода социокультурным трансформациям, оказывается, не готов. Предчувствуя грядущий социальный дискомфорт, тенденции к гомогенизации, девальвацию и трансформацию этнических ценностей и традиций, угрозу разрушения системы этнокультурной среды со всеми ее институтами социальной, правовой, политической и нравственной самозащиты, на индивидуальном уровне и в группе начинается муссирование права на самоопределение своей этнической общности, его суверенитет, право распоряжаться собственными природными и интеллектуальными ресурсами. Трансплантация норм в систему терминальных ценностей этнического оказывается чрезвычайно болезненной, деморализующим образом сказывается на людей, порождая когнитивный диссонанс и массовую фрустрацию, чувство личной беспомощности и апатии. В такой социокультурной анархии индивидуальное «Я» «переструктурируется», наталкивается на тенденцию к абстрактности и растворяемости в глобальном «МЫ», при этом игнорируются неповторимость и оригинальность этнического «Я». Тем самым человек наделяется ощущением прямого, неопосредованного соучастия в происходящем этно-национальном проекте, даже агнацией с этнической общностью, абсолютное большинство которой ему не знакомы, и он никогда не увидит их. Иными словами, аутентичная ярко выраженная или имплицитно присутствующая коллективная идентичность приобретает характер аналитических единиц в социально значимой коммунальной системе, в то время как национальная или глобальная невыразительная идентичность оказывается невостребованной в коммунальной жизни.
Как заметил Урс Альтерматт (Urs Altermatt), человек ощущает всесильную угрозу «СВОЕЙ» этнокультурной идентичности и испытывает потребность в том, чтобы каким-то образом отличаться от «ДРУГИХ». «В то время как европейцы становятся все больше похожи друг на друга при потреблении и ведении хозяйства, на уровне культуры они поднимают мятеж против глобализации» [16]. У людей не наблюдается активная готовность сменить свою этническую принадлежность и не приходится говорить о зарождении единой общепланетарной эт-ничности. Как пишет О.А. Бельков, человеческое общество никогда не перерастет «в синкретическую массу одинаково мыслящих и одинаково действующих индивидов» [8]. В подтверждение сошлемся на многочисленные факты возрастающей самоорганизации этнических диаспор практически во всем мире и их стремление к самоопределению в той или иной форме в стране пребывания и укреплению связей с этнической родиной. Те, кому плоды глобализации недоступны, которые ощущают неуютность, попытаются оградить себя от издержек и попрания путем поиска специфических локальных этнических ресурсов своего этноареала, своей этнично-сти, что вызывает нарастание узкорегиональных, узкоэтнических аспектов.
Люди повсеместно поднимают «этническое восстание», отторгают как чужое и готовы активно противостоять подобным тенденциям глобализации, что свидетельствует о несоответствии их природе, неестественности такого рода процесса слияния разного этнического. В переломном условии этничность неминуемо приобретает особое социальное значение для всех членов общности как на индивидуальном, так и на массовом уровне, становится основным нормативно-ценностным ориентиром, способным предотвратить индивидуальную и общественную аномию [17, с. 38]. Объединение по признаку этничности становится наиболее доступным способом противостояния [18, с. 161], и в процессе самовыражения сконцентрируется как самоопределяющийся субъект, который с началом современной глобализации начал принимать актуальную социальную сущность. Повсеместно наблюдается актуализация этничности и традиционных форм правовой культуры, замкнутость регуляции внутриэтниче-ских отношений на основе архаичных норм. Великий этнический реванш» привлекателен тем, что он не отрицает диалектику общественного развития, при сохранении этнической свойскости, правовых обычаев и институтов [19, с. 105]. В тоже время он представляет серьезную угрозу и опасность как для полиэтнического государства, так и для этнической общности. Вполне можно согласиться с Н.Г. Овсянниковым, что угрозу для этничности представляет не только глобализация, но и то, что особый правовой статус и юридизация этничности преобразуется в борьбу за ресурсы [20, с. 41]. Многие эксперты не сомневаются в объективной природе такой ситуации, и, даже, позитивной необходимости дробления этнополитической карты мира. Базируясь на эмпирических исследованиях явлений последних десятилетий XX века, Э. Смит высказывал мнение о «глобальном этническом возрождении» [21, с. 388]. Еще в 1975 году ряд авторов высказали мнение, что этническая диверсификация, а не ассимиляция или интеграция, будет доминирующим фактором в процессе социальной эволюции [22]. Одним из первых, кто заметил тенденцию этнической фрагментации, был Бенджамин Р. Барбер (Benjamin R. Barber). В начале 1990-х годов он пристально изучал проявления сепаратистских движений, этнических и конфессиональных конфликтов, которые определил как «джихад против глобального мира» (Jihad Versus McWorld) [23].
Как доказывают многочисленные наблюдения, фрагментация социальной системы редуцируется, как правило, по признаку этничности как в глобальном масштабе (создание новых этнонациональных государств), так и в национальном масштабе (автономизация разных групп и территорий) [8]. В подтверждение можно ссылаться на феномен этнической консолидации в диаспорах, организацию земляческих союзов практически во всем мире, их стремление к самоорганизации, этнонациональному самоопределению в соответствии с юрисдикцией государства проживания. Причем давние и новые переселенцы не растворяются в этнокультурной среде коренного населения, не ассимилируются, даже не интегрируются в новое об-
щество, как ожидалось, а наоборот, демонстрируют прочную связь с этнической родиной, создают общины со своим языком, автохтонными обычаями и традициями 3 .
Фрагментарная контртенденция глобализационных процессов или этнофрагментация актуализирует локальную этничность и этнические различия между народами. Согласно теории модернизации, этничность принадлежит к «домодернистским» и «дорационалистским» формам идентичности и политического участия. Поскольку этничность содержит примордиальные константные элементы социальной идентичности, постольку она вступает в противоречие с модернистской системой элементов глобализации, на которой развертываются новые формы структуры индивидуальной социальной идентификации, лояльности и восприятия групповой идентичности. Модернизм на первый план выдвигает приоритет рационального конструктивистского выбора, а также преимущество скорее инструментальной культурной, чем эмоциональной идентичности. Было бы неправильно рассматривать модернизм как ослабление примордиальных связей и тотальную «слепую» рационализацию индивидуальной идентификации. Напротив, в процессе своего развития модернизм формирует у людей новые мотивы, поведение и образы действия, новую идентичность [24], тем самым актуализируя эт-ничность как своеобразную психологическую нишу, обеспечивающую необходимое ощущение индивидуальной безопасности в условиях кризиса этничности.
Таким образом, рассмотренные аспекты позволяют заключить:
Во-первых: этническая квинтэссенция выступает как доминантный параметр фрагментации. Правда, она не является устойчивым фактором, который находится в диалектической оппозиции с глобализацией. А наблюдаемое между ними противоречие опосредовано и является, главным образом, результатом обостренной конфликтности транснациональных, региональных и национальных правовых систем, в рамках которых этничность выступает как самостоятельный правовой субъект и играет активную политическую роль. Другими словами, этничность слита с фрагментацией, но она не бросает вызов процессам современной глобализации и глобального нелинейного развития, а политической и экономической монополии бюрократической власти разного (транснационального, национального, этнического) уровней, неспособной к рациональному политическому поведению и правовой регламентации общественной жизни в кардинально изменившихся условиях.
Во-вторых: как показывает диахронный этнополитологический анализ, тенденция к сохранению и развитию этнической обособленности возрастает и находит свои отражения, в том числе и в быту. Все чаще наблюдается стремление части населения демонстрировать в потреблении этничность «СВОЮ» и «СВОЕЙ» группы, в том числе и некогда забытые элементы традиционной культуры. В национальной экономике многих стран охотно развивается бизнес, культивирующий у потребителей символы этничности.
В-третьих: языковые барьеры усложняют успешную экономическую деятельность, затрудняют сбыт самой разнообразной продукции ТНК за счет ее адаптации к этничности. Сегодня мировые производители, мимикрируя под этничность, выпускают свою продукцию мелкими партиями с маркировкой на этнических языках без существенного ущерба для цены, что по существу является экономическим составляющим маркировки этнических границ массового потребления. Мировые коммуникационные компании, такие, как Microsoft, Google, Yahoo и т.д., используют этнические особенности как дополнительный ресурс конкуренции. Правда, использование этнических маркеров иногда может в экономическом плане обойтись дороже: так, в одном СМС-сообщении можно отправить 160 символов латиницей, тогда как кириллицей – 70.
В-четвертых: можно констатировать, что в конце XX – начале XXI вв. тенденции глобализации определенным образом противостоит тенденция этнической фрагментации. Как показывали эмпирические исследования, такая контртенденция выстраивается по параметрам этничности. Это удивительным образом контрастируется тем фактом, что наряду с тенденцией к ассимиляции в США четко наблюдалась и противоположная тенденция – к сохранению, возрождению этниче- ской культуры далекой родины. Уже с 1960-х годов стали появляться теоретические работы, в которых ставились под сомнение проекты «плавильного котла» [25]. Перепись 2010 г. наглядно продемонстрировала псевдонаучность такого рода утверждения: идентификация строится преимущественно не на государственной, а на этнической основе – только 5% граждан США считали себя «просто американцами», остальные относили себя к 215 этническим группам 4.
Таким образом, в процессе социальной эволюции в равной мере происходит не только унификация и стандартизация этнического, но и имеет место закономерная контрпозиция. Происходит феноменальный процесс дифференциации различных цивилизационнных структур и элементов, опираясь преимущественно на этничность как один из «жестких» каркасов самоидентификации – самой доступной и свойственной человеческой природе. Усиливается центробежная тенденция отторжения между отдельными фрагментами и социумами, разобщения ряда систем и структур разного уровня жизнедеятельности человеческого рода, которая порой выступает в четко сформулированной и структурно организованной форме этнона-ционального самоопределения. В современном мире расширилась область деятельности, имеющая транснациональный характер, управление которой не может осуществляться исключительно в границах одного нации-государства. Транснациональные агенты, трансграничные потоки капиталов, информационные технологии взламывают границы между странами и народами [26, с. 63–65]: «включитесь в наш Интернет, возьмите наши инвестиции и кредиты, приобщайтесь к нашим культурным ценностям и стандартам» [27]. Очевидно, что именно сохранение специфически локального культурного своеобразия задает определенные параметры культурной матрицы цивилизационного развития. Исторический опыт свидетельствует о том, что неадекватное понимание сущности этничности, этнонациональных институтов и силовое вмешательство в процессы социализации продуцирует дихотомическое отношение, побуждая собственное самотворение кросскультурной конфигурации.
Список литературы К вопросу о понятии "этнофрагментация" в условиях динамики глобализационных процессов
- Моисеев Н.Н. С мыслями о будущем России. М., 1997.
- Кант И. К вечному миру. Соч. в 8 тт. Т. 7. М., 1994.
- Робертсон У. История о государствовании императора Карла V и проч. СПб., 1775.
- Дзагуто В. Европа: размножение делением. Исчезающий британский народ: крупным планом/Время новостей: печатное СМИ газета. 2007. 29 января.
- Watson R. Most voters want Britain to quit EU, poll shows /The Times. 2013. 25 января. URL: http:/www.thetimes.co.uk/tto/news/politics/article3667906.ece (дата обращения: 18.07.2014);.