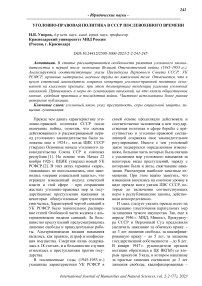К вопросу о понятии качества расследования уголовных дел
Автор: Хакимов И.И.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 2-2 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены некоторые теоретические проблемы качества расследования уголовных дел. На основе анализа норм уголовно-процессуального закона и существующих в науке подходов к пониманию качества расследования сформулированы отдельные рекомендации, направленные на его повышение, а также определены критерии оценки качества расследования уголовных дел и обосновано авторское понимание качества расследования уголовных дел.
Качество расследования уголовных дел, критерии качества расследования
Короткий адрес: https://sciup.org/170197849
IDR: 170197849 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-2-2-246-249
Текст научной статьи К вопросу о понятии качества расследования уголовных дел
Прежде чем давать характеристику уголовно-правовой политики СССР после окончание войны, отметим, что основы действовавшего в рассматриваемый период уголовного законодательства были заложены еще в 1924 г., когда ЦИК СССР утвердил Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик [1]. На основе этих Начал 22 ноября 1926 г. ВЦИК утвердил новый УК РСФСР [2]. В этих актах термины «кара», «наказание» не использовались, они заменялись «мерами социальной защиты», что отражало измененный подход советской власти в этой сфере – при сохранении жестких уголовно-правовых мер за государственные преступления наказания за некоторые общеуголовные преступления смягчались. Характерной чертой санкций в УК РСФСР было значительное расширение статей Особенной части кодекса с альтернативными видами санкций. За большинство преступлений предусматривались лишение свободы и принудительные работы. Альтернативными видами наказания являлись, как правило, штраф и конфискация имущества. Смертная казнь содержалась в 18 статьях, и в большинстве случаев относилась к преступлениям против государства.
В послевоенные годы (1945-1953 гг.) указанные характеристики УК РСФСР в своей основе продолжали действовать и соответственно заложенная в нем государственная политика в сфере борьбы с преступностью в уголовно-правовой составляющей сохраняла свое законодательное регулирование. Вместе с тем уголовный закон подвергался определенным изменениям, большая часть которых была связана с усилением мер уголовного наказания за некоторые виды преступлений, наряду с которыми были и акты, смягчавшие наказания. Рассмотрим наиболее заметные изменения. При этом важно заметить, что изменения вносились на союзном уровне в виде прежде всего указов ПВС СССР, которые до включения соответствующих норм в республиканские законы, действовали непосредственно.
И здесь следует указать прежде всего на тенденцию ужесточения карательных мер за хищения чужого имущества. Так, еще в апреле 1946 г. МВД, Минюст, Прокуратура СССР и Верховный Суд предложили увеличить наказание за обычную кражу – до 3 лет лишения свободы, за квалифицированную кражу – до 5 лет, за хищение государственной собственности – до 8 лет. В январе 1947 г. руководители органов юстиции обратились в ЦК ВКП(б) со вторым проектом Указа, в котором наказание за простые хищения составляло до 3 лет лишения свободы, квалифицированные – от 2 до 7 лет. Данный проект дорабатывался в течение марта 1947 г. и был вынесен на рассмотрение Оргбюро ЦК ВКП(б). В апреле-мае 1947 г. в результате доработки в Центральном Комитете и личной правки И. Сталина были утверждены основные положения Указов ПВС СССР «Об уголовной ответственности за хищения государственного имущества» [3] и «Об усилении охраны личной собственности граждан» [4], введенных в действие 4 июня 1947 г.
В обоих указах, по сравнению с действовавшим тогда уголовным законодательством, регулирующим ответственность за хищения государственного имущества, более тщательно с юридической точки зрения были разработаны составы соответствующих преступлений и значительно усилено наказание (например, за особо квалифицированное хищение личного имущества путем разбоя по Указу предусматривалось лишение свободы на срок до 20 лет, а ранее было до 10 лет). Законодатель отказался смешивать в составе разбоя два преступления – собственно разбой и неосторожное убийство при совершении разбоя (по Указу эти деяния стали квалифицироваться отдельно, а ранее предполагался один состав разбоя). Было также сочтено целесообразным отказаться от понятия «социальной опасности» при определении меры наказания. Эти указы подтвердили приоритет интересов защиты государственной собственности над личной.
В литературе отмечается, что указы от 4 июня 1947 г. «означали отказ советского руководства от исправительных принципов в уголовной политике. Ее главным принципом стали жестокие карательные меры» [5, с. 163]. Однако с этой точкой зрения трудно во всем согласиться в силу излишней категоричности выдвинутого тезиса. Факт усиления репрессий – очевиден, и на этот счет разногласий, разумеется, быть не может. Однако нужно учитывать, что нормы указов 1947 г. представляли собой только часть уголовного законодательства, действовавшего на всей территории СССР. Поскольку они не были включены в тексты союзных уголовных законов, то действовали непосредственно наряду с другими нормами союзных уголовных кодексов, в нашем случае – УК РСФСР. А в нем, как мы показали, предусмотрена не только карательная, но и исправительно-воспитательная составляющая. Другое дело, что карательная составляющая в рассматриваемый период была выдвинута на первый план, о необходимости более жесткого отношения к расхитителям говорилось на собраниях, в СМИ и т.д., и, вероятно, это создало впечатление, что государство действует только в одном – репрессивном – направлении. На самом же деле концепция воспитательного воздействия уголовного наказания, будучи отраженной в УК РСФСР, продолжала действовать и находила определенную реализацию в процессе исполнения уголовных наказаний, но это регулировалось уже исправительно-трудовых законодательством.
Другим заметным событием в развитии послевоенного уголовного законодательства стал закон об отмене смертной казни от 26 мая 1947 г. [6]. В литературе однозначно трактуется как шаг в сторону гуманизации. Отмена смертной казни, исходя из указа, была обусловлена «исторической победой советского народа и возросшей мощью Советского государства, но, прежде всего исключительной преданностью Родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза» [7, с. 13]. Также этому способствовала международная обстановка после капитуляции Германии и Японии и пожелания профессиональных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов.
Однако уже через четыре года (закон от 12 января 1950 г.) смертная казнь вновь вводится в действие, правда, к ограниченному кругу преступников (в дальнейшем число категорий «смертников» будет неуклонно увеличиваться). На наш взгляд, закон об отмене смертной казни был обусловлен стремлением власти каким-то образом показать, что государство принимает не только законы, усиливающие репрессии. Но поскольку генеральная линия не менялась, то шаги к возврату смертной казни просматривались практически сразу после ее отмены, и они были связаны с актами об усилении карательной политики (хотя логика отмены смертной казни требовала и соответствующего смягчения иных мер уголовно-правового воздействия - на деле, однако, все происходило наоборот). Приведем еще примеры, помимо указанных выше.
Так, 9 июня 1947 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну» [8]. Этот Указ помогал следствию привлекать к уголовной ответственности лиц, в отношении которых не было возможности доказать факт шпионажа, то есть целенаправленной передачи гостайны иностранным разведкам, в то время как факт разглашения гостайны доказать можно было сравнительно несложно. Наказание предусматривалось достаточно жестким – до 12 лет лишения свободы должностным лицам и до 10 лет – частным лицам. В этом же указе содержался и еще один, совершенно новый состав преступления – «заявка или передача за границу изобретений, открытий и технических усовершенствований, составляющих государственную тайну, сделанных в пределах СССР, а также сделанных за границей гражданами СССР, командированные государством, если эти преступления не могут быть квалифицированы как измена Родине или шпионаж» [8]. Данное деяние каралось заключением в ИТЛ на срок от 10 до 15 лет, и соответствующие уголовные дела должны были рассматриваться военными трибуналами.
На следующий год вышел Указ «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны» [9], где говорилось, в частности, что «в целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Отечественной воины чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др., а также в связи с тем, что во время их переселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства. За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ» [9].
Не удивительно, что и после возврата смертной казни государство продолжало принимать акты в прежнем духе. О приоритете репрессивных мер свидетельствует и тот факт, что в рассматриваемый период (июнь 1945 – март 1953 г.) была проведена только одна амнистия, а именно связанная с Победой. Между тем в дальнейшем поводы для амнистии имелись, например, в 1947 г. отмечалось 30-летие Великого Октября, в 1950-м году 5-летие Победы. Однако власть не посчитала нужным смягчать участь преступников, и следующая амнистия была проведена только после смерти Сталина, причем практически сразу – 27 марта 1953 г. [10], и такая поспешность дает основание предполагать, что жесткость предшествующих уголовных законов давно уже зашла за рамки доктрины государственно-правовой политики государства по борьбе с преступностью.
Однако вновь укажем на то, что наряду с мерами репрессий принимались и меры по гуманизации карательной политики. Так, в июле 1951 г. была отменена одиозная норма, принятая еще в 1940 г., об уголовной ответственности рабочих и служащих за прогулы [11]. В мае 1948 г. на имя Сталина, Жданова и других руководителей поступило письмо от журналистки А. Абрамовой, в котором сообщалось о тяжелом положении матерей и беременных женщин, осужденных по июньским указам 1947 г. за мелкие кражи. После посещения судов и мест заключения, бесед с осужденными, а также с руководителями предприятий и партийными работниками она пришла к выводу, что этот острый вопрос весьма тревожит население и заслуживает серьезного рассмотрения со сторо- ны правительства. Абрамова отмечала, что привлеченными к суду и осужденными к 7-10 годам лишения свободы оказывались люди, попавшие в тяжелое материальное положение и своевременно не получавшие никакой помощи и поддержки от хозяйственных и партийно-профсоюзных организаций. Такие приговоры нередко вызывали возмущение трудящихся. К осужденным матерям относились с большим сочувствием как по месту их прежней работы, так и в местах заключения. Летом 1948 г. в ЦК ВКП(б) Жданову от Председателя Верховного Суда СССР Голякова поступил проект указа ПВС СССР об освобождении от наказания осужденных беременных женщин и женщин, имевших при себе детей в местах заключения. Для проведения его в жизнь предусматривалось создание в исправительно-трудовых учреждениях специальных комиссий в составе председателя лагерного суда, проку- рора места заключения и представителя администрации. К проекту указа был приложен проект постановления пленума Верховного Суда СССР по данному вопросу. В нем отмечалось, что суды, определяя наказание по делам о преступлениях, караемых указами от 4 июня 1947 г., назначают в полном объеме наказание в отношении подсудимых беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей до четырех лет, совершивших единичное мелкое хищение в результате тяжелых семейных обстоятельств. Ввиду этого ука- условного или иного наказания, не связанного с лишением свободы [12, л. 23].
Этот пример показывает, что правоприменительная практика некоторым образом корректировало уголовный закон. Следует также заметить, что, по мнению А.С. Беркутова, в течение 1940-х гг. статус уголовного закона фактически приобрели ряд секретных инструкций и подзаконных актов. Пример этому – сборник приказов и инструкций Министерства юстиции СССР 1936-1948 гг., выпущенный в 1949 г. В этом сборнике приводится целый ряд министерских приказов, которые вытекали из постановлений СНК и Совета министров СССР, в частности. речь шла директивные письмо о том, как следует бороться с хищениями в сети потребительской коопера- ции, о том, что директора заводов и председатели колхозов были обязаны в случае особо крупных хищений искать для возврата утраченное имущество [13, с. 8]. По нашему мнению, такого рода документы нет оснований относить к уголовному законодательству, поскольку они не несут в себе материально-уголовного начала, хотя, безусловно, определенную роль при квалификации преступлений имели. В этом же контексте следует отметить и попытки создать общесоюзный уголовный кодекс, в частности, проект такого акта был подготовлен в 1947 г. Однако в дальнейшем данный подход (общесоюзный кодекс вместо общесоюзных основ) был признан нецелесообразным.
зывалось на правомерность применения
Список литературы К вопросу о понятии качества расследования уголовных дел
- Батыщева Е.В. Актуальные вопросы и проблемы качества предварительного расследования и пути их решения // Юристъ - Правоведъ. - 2017. - № 3 (82). - С. 55-60.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=10902 (дата обращения: 24.01.2023).
- Зникин В.К. Понятие эффективности и качества предварительного расследования // Вестник Томского государственного университета. Серия Право. - 2014. - № 1 (11). - С. 25-32.
- Нечаев А.А., Курилов С.И. Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: учебное пособие. - М.: Академия управления МВД России, 2021. - 124 с.
- Кудряшова Е. С. Обеспечение качества дознания в уголовном судопроизводстве: автореф. … дис. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2020. - 34 с.
- Мезинов Д. А. О возможности и критериях достижения объективной истины в уголовном процессе // Вестник Томского государственного университета. - 2010. - № 339. - С. 102-105.
- Туманов Д. И. Нужен ли современному судопроизводству принцип объективной истины // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. - 2021. - № 12 (88). - С. 28-40.
- Цветков Ю.А. Стандарты качества предварительного следствия задает суд // Мудрый юрист. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://wiselawyer.ru/poleznoe/85290-standarty-kachestva-predvaritelnogo-sledstviya-zadaet (дата обращения: 30.01.2023).