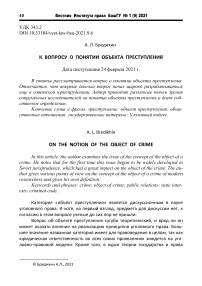К вопросу о понятии объекта преступления
Автор: Бредихин Алексей Леонидович
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
Статья в выпуске: 1 (9), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о понятии объекта преступления. Отмечается, что впервые данный вопрос начал широко разрабатываться еще в советской юриспруденции. Автор приводит различные точки зрения современных исследователей на понятие объекта преступления и дает собственное определение.
Преступление, объект преступления, общественные отношения, государственные интересы, уголовный кодекс
Короткий адрес: https://sciup.org/142232174
IDR: 142232174 | УДК: 343.2
Текст научной статьи К вопросу о понятии объекта преступления
Категория «объект преступления» является дискуссионным в науке уголовного права. И хотя, на первый взгляд, предмета для дискуссии нет, к согласию в этом вопросе ученые до сих пор не пришли.
Вопрос об объекте преступления сугубо теоретический, и вряд ли он может оказать влияние на реализацию принципов уголовного права. Боль‐ шее значение названная категория имеет для правоведения в целом, так как юридическая ответственность во всех своих проявлениях зиждется на уго‐ ловно‐правовой модели. Кроме того, в курсе теории государства и права
раздел, посвященный правонарушению, по сути, является проекцией уго‐ ловно‐правового учения.
Нужно отметить, что споры относительно понимания объекта преступ‐ ления возникли в советской юриспруденции (в то время споры с так назы‐ ваемыми «буржуазными» порядками занимали центральное место в науч‐ ных трудах советских ученых), в дореволюционной российской науке этот вопрос затрагивался не так часто. Так, Н.С. Таганцев в качестве объекта пре‐ ступления называл юридическую норму в ее реальном бытие, а причинение вреда рассматривал только как средство преступления, а не его сущность [1, с. 47]. Такого же мнения придерживался и В.М. Хвостов, считавший, что пре‐ ступление направлено против права, оно подрывает авторитет права и госу‐ дарства, поэтому имеет общественный характер [2, с. 138]. В целом досовет‐ ская правовая наука в этом вопросе опиралась по большей части на норма‐ тивизм и рассматривала объект правонарушения как посягательство на нор‐ му права (государственное установление).
С развитием советского государства и права, а также с развитием со‐ ветской юриспруденции интерес к объекту преступления возрос, так как преступлением затрагиваются не только сугубо правовые, но и политические аспекты. Советская юриспруденция критиковала понятия объекта преступ‐ ления в буржуазных странах и царской России за отсутствие упоминания о классовом характере государства. Кроме того, если учитывать особый харак‐ тер советского государства и его идеологических основ, признание того, что преступление посягает на государством установленные нормы, было невоз‐ можным. Советское государство стремилось через социализм прийти к ком‐ мунизму, соответственно, понятие объекта преступления должно было быть актуальным на любом этапе этого пути. Впрочем, нужно сделать поправку на то, что советские ученые определяли объект преступления только для госу‐ дарства, которое строили, то есть для социалистического.
Постепенно в советском уголовном праве начала формироваться кон‐ цепция общественных отношений как объекта правонарушения. И теория права, и уголовное законодательство того периода были в этом вопросе едины. Так, уже в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» (1919) под преступлением понималось действие или бездействие, опасное для данной системы общественных отношений (ст. 6), а необходимость наказа‐ ния (ст. 7) обосновывалась тем, что власть охраняет общественные отноше‐ ния от нарушителей. Видимо, сущность советского государства не позволяла признать, что преступление воздействует на государственный порядок, так как власть признавалась общественной по своей сути.
По большому счету, «юридическая норма в ее реальном бытие», по Н.С. Таганцеву, по своей сути означает то же, что и общественные отношения в советской интерпретации, а именно наличие определенного нормативного порядка – государственного или общественного. Нужно оговориться, что речь идет об абстрактном понятии объекта преступления. Конкретные объ‐ екты (или непосредственные объекты, предметы) преступления должны оп‐ ределяться на основе общего понятия и не могут противоречить ему.
Существует концепция, согласно которой объектами преступления вы‐ ступают блага, предметы материального мира, права и т. п., которым причи‐ няется вред. Однако еще советский ученый Н.И. Коржанский отмечал, что «преступление всегда направлено на изменение общественных отношений» [3, с. 19]. Он считал, что «поскольку собственность в марксистском понима‐ нии – это отношение между людьми по поводу их отношения к вещам, иму‐ ществу, являющимся свойствами, сторонами общественных отношений, то социалистическое имущество является предметом посягательств на социа‐ листическую собственность, а не объектом этих преступлений» [3, с. 22].
Н.И. Коржанский дал следующее определение понятия «объект пре‐ ступления»: «обеспеченная социалистическим обществом субъектам социа‐ листических общественных отношений возможность соответствующего ин‐ тересам социалистического общества поведения его членов, групп, классов или их состояния» [3, с. 43]. То есть не сами общественные отношения, а обеспеченные права участников этих общественных отношений являются объектом преступного посягательства. Впрочем, обеспеченная возможность поведения членов социалистического общества – это тоже в некотором роде нормативный порядок.
УК РСФСР 1960 г., действовавший до принятия УК РФ 1996 г., в ст. 7 со‐ держал определение преступления, которое, на наш взгляд, не вполне соот‐ ветствовало пониманию объекта преступления как общественных отношений. Под преступлением советский законодатель понимал общественно опасное деяние (действие или бездействие), которое посягает на советский общест‐ венный или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, со‐ циалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущест‐ венные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистиче‐ ский правопорядок общественно опасное деяние. То есть в статье просто пе‐ речислены конкретные предметы (непосредственные объекты) преступления. Интересна в этом определении фраза «...а равно иное, посягающее на социа‐ листический правопорядок общественно опасное деяние», из которой мы можем сделать вывод, что любые преступления посягают на «социалистиче‐ ский правопорядок», а не на общественные отношения.
УК РФ не дает четкого понимания, что же является объектом преступ‐ ления. В ст. 2 УК РФ перечислены объекты защиты, в числе которых общест‐ венные отношения не упоминаются. В определении преступления, данном в ст. 14 УК РФ, под которым понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания, также не делается ак‐ цент на общественных отношениях, из чего можно сделать вывод о том, что законодатель не связывает преступление с нарушением общественных от‐ ношений, а называет конкретные блага или ценности, подлежащие защите.
Тем временем дискуссия относительно понятия объекта преступления в науке продолжается. Под объектом преступления понимают и блага челове‐ ка, для обеспечения сохранности которых существует уголовный закон [4, с. 9], и социальную безопасность (то есть состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства), за посягательство на которую предусмотрена уголовная ответственность [5, с. 31], и «охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым преступлением при‐ чиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда» [6, с. 121] и т. д. В.Н. Винокуров указывает, что «отказ от теории концепции об‐ щественных отношений как объекта преступления необоснован» [7, с. 119].
Таким образом, об объекте преступления единой позиции на сего‐ дняшний момент не сложилось. Возможно, потому, что УК РФ не решил этот вопрос и оставил специалистам в сфере уголовного права значительный простор для дискуссий. Между тем для формирования понятия объекта пре‐ ступления считаем необходимым несколько расширить рамки исследования и рассмотреть вопрос на общетеоретическом уровне.
В первую очередь нужно отметить, что уголовный закон устанавливает наказание за нарушение каких‐либо запретов. Например, за лишение чело‐ века жизни, необоснованное лишение собственности (хищения в любой форме), нарушение порядка в экономической сфере и т. п. В таком же ключе можно рассматривать и законодательство об административных правона‐ рушениях, которое функционирует по тем же принципам и законам, что и уголовный закон. Разграничение уголовного и административного права проводится по четким критериям, но объект преступлений и правонаруше‐ ний один – установленный государством правопорядок.
Государство обладает монополией на установление императивных норм, и там, где они нарушаются, у государства есть основание применить меры негативного воздействия на нарушителя. Из этого нужно сделать вы‐ вод, что любое преступление (как и правонарушение) посягает на установ‐ ленный государством нормативный порядок, а также на государственный интерес. Под государственным интересом следует понимать желаемое для государства состояние тех сфер жизни, которые требуют отдельного внима‐ ния, но не могут (не должны) поддаваться императивному нормативному регулированию.
Если проанализировать Особенную часть УК РФ, то можно вычленить эти направления посягательств. Например, кража (ст. 158 УК РФ) посягает на правопорядок в части защиты прав собственности, установленных Конститу‐ цией РФ и гражданским законодательством. С защитой государственного ин‐ тереса связана, например, ст. 354.1. «Реабилитация нацизма», которой за‐ щищается в том числе государственный интерес на уважительное отноше‐ ние к истории страны.
На основании изложенного мы предлагаем следующее определение объекта преступления: объект преступления – установленный государством нормативный порядок, а также государственные интересы, которые подле‐ жат особой защите под угрозой уголовного наказания.
Определение объекта преступления через общественные отношения было свойственно для советского правоведения, для которого идеологиче‐ ски важно было обозначить общественный характер власти в части установ‐ ления обязательных норм, на основании которых и возникали обществен‐ ные (правовые) отношения. Общественные отношения, возникающие на ос‐ новании неправовых социальных норм, далеко не всегда подлежат государ‐ ственной защите (например, исполнение некоторых религиозных ритуалов или местных обычаев). Поэтому те общественные отношения, которые име‐ ют в виду приверженцы советской школы уголовного права, по своей сути тоже нормативные, а значит, не вполне общественные.
Список литературы К вопросу о понятии объекта преступления
- Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: лекции: [в 2 т.]. СПб., 1902. Т. 1. 823 с.
- Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. М., 1914. 147 с.
- Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Акад. МВД СССР, 1980. 248 с.
- Векленко С.В., Семченков И.П. О необходимости совершенствования понятия "объект преступления" // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 2. С. 7-10.
- EDN: XSJXYD
- Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголовное право. 2003. № 1. С. 29-31.
- Уголовное право. Общая часть: учебник. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма "Контракт": ИНФРА-М, 2008. 800 с.
- Винокуров В.Н. Общественные отношения как объект преступления: за и против // Государство и право. 2010. № 1. С. 116-119.
- EDN: LRFGIR