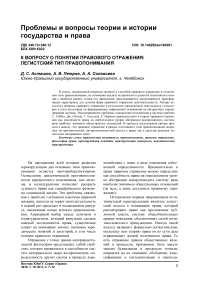К вопросу о понятии правового отражения: легистский тип правопонимания
Автор: Асташов Дмитрий Сергеевич, Петров Александр Васильевич, Соловьева Алина Антоновна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 2 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье, посвященной вопросам понятия и способов правового отражения в позитивном типе правопонимания, на основании анализа исторического развития позитивизма начиная с наиболее ранних этапов его зарождения, прослеживаются закономерности трансформации характерных для легизма форм правового отражения действительности. Авторы исследуют вопросы правового отражения в результатах юридической деятельности глоссаторов и постглоссаторов по формированию современной основанной на абстрактных нормах правовой системы. Рассматриваются проблемы становления позитивизма в научных работах Т. Гоббса, Дж. Остина, Г. Кельзена, Р. Иеринга применительно к теории правового отражения как способности права на определенном уровне абстракции воспроизводить систему ряда наиболее значимых общественных отношений. В процессе исследования авторы пришли к выводу, что правовое отражение в рамках позитивного типа правопонимания опиралось на прагматический, инструменталистский подход к праву как к средству решения тех или иных внеправовых задач.
Юридический позитивизм, правопонимание, правовое отражение, философия права, юриспруденция понятий, юриспруденция интересов, аналитическая юриспруденция
Короткий адрес: https://sciup.org/147150254
IDR: 147150254 | УДК: 340.13+340.12 | DOI: 10.14529/law160201
Текст научной статьи К вопросу о понятии правового отражения: легистский тип правопонимания
На протяжении всей истории развития юриспруденции два основных типа правопонимания остаются противоборствующими. Осмысление диалектической противоположности юридического позитивизма, или легизма, и юснатурализма позволяет раскрыть сущность права как специфического феномена социальной жизни. Эта проблема, связанная с наиболее глубокими пластами правовой материи, никогда не теряет свою актуальность и всякий раз предстает в неожиданном ракурсе, высвечивая новые аспекты правопонима-ния. Априорный выбор между легизмом и юснатурализмом, который вынужден сделать каждый исследователь права, существенно влияет на понимание многих значимых юридических понятий и категорий, в том числе понятие правового отражения.
Отражение с точки зрения материалистической философии представляет собой свойство, которое проявляется в способности систем материального мира воспроизводить определенность других систем в процессе взаи- модействия с ними в виде изменения собственной определенности. Применительно к праву правовое отражение можно определить как способность права на определенном уровне абстракции воспроизводить систему ряда наиболее значимых общественных отношений (не всех, а лишь доступных правовому отражению).
Исторически первым направлением позитивистской юриспруденции является легист-ский подход к пониманию права, который рассматривает право как предписание публичной власти, систему общеобязательных правил поведения, обеспеченных силой политико-властного принуждения. Иногда такой подход называют формально-догматическим, поскольку всю теорию права он по сути дела ограничивает догмой позитивного права. То есть отражение правом общественных явлений и процессов, призванное быть максимально буквальным и предельно точным, опирается на их описание, обобщение, классификацию и систематизацию в законода- тельстве. Очень часто рассматриваемое направление обозначается в литературе как «юридический позитивизм», что представляется неверным. Ведь слово «юридический» в переводе с латыни означает «право» (ius), а позитивисты, отождествляющие право и закон, используют данное слово только в смысле «lex», то есть «закон». Следовательно, «это позитивизм не юридический, а легистский, законнический» [9, c. 29].
Позитивистский подход к пониманию права берет свое начало в учениях древнекитайских легистов IV в. до н.э., опиравшихся на тотальное административно-управленческое насилие как наиболее эффективный регулятор отношений в обществе.
В римском праве широкое распространение таких терминов, как «собственность», «владение», «деликт», «мошенничество», «кража» и десятки других, однако не означало, как указывает Дж. Г. Берман, их понимания в качестве идей, пронизывающих все нормы и определяющих их применимость: «Понятия римского права, как и его многочисленные нормы, были привязаны к определенным юридическим ситуациям. Римское право состояло из сложной сети норм; однако они существовали не как интеллектуальная система, а скорее как красочная мозаика практических решений конкретных юридических вопросов. Таким образом, можно сказать, что хотя в римском праве присутствовали понятия, там отсутствовало определение самого понятия» [2, c. 152]. Можно сказать, что в римском праве эпохи Юстиниана для отражения общественных отношений в праве еще не применялись общие понятия, использовались лишь термины – имена конкретных явлений в логической системе «имя – денотат».
Термины римского права, его «дефиниции» – точное изложение правовых норм, приводимых в решениях по отдельным делам – были жестко привязаны к конкретным юридическим ситуациям, определенному контексту. Одно из правил Яволена гласит: «Все нормы (definitiones) в гражданском праве опасны, ибо почти всегда могут быть искажены». В постклассический период для римского права характерна тенденция к более высокому уровню абстракции. Юристы первой половины II в. начали говорить о нормах (regu-lare), которые выводились из прецедентов, но в то же время могли рассматриваться отдельно. Но и эти нормы, несмотря на их отточен- ность, четкость и форму правовых принципов, имели значение только в том контексте содержания конкретных дел, в рамках которых они когда-либо были применены, то есть в отношении к определенным ситуациям. В первой норме цитируются слова Павла: «Норма – это нечто кратко излагающее суть дела. Посредством норм передается краткое содержание дела, если оно неточно, то теряет свою полезность».
В XI–XII вв. западноевропейские юристы, опираясь на диалектику Платона и Аристотеля, проводили анализ и синтез древних текстов – массы противоречащих друг другу юридических доктрин, почерпнутых из кодификации Юстиниана и других источников. Разработанный в начале 1100-х гг. схоластический метод анализа – синтеза, который Дж. Г. Берман назвал диалектическим в широком смысле, использовался для концептуализации норм и общих принципов права.
Этот метод состоит в том, что целое признавалось истиной, а внутри него различные части могли обладать различной степенью истинности. Пьер Абеляр в XII в. писал о такой максимальной посылке, которая суммирует логику и смысл, являющиеся общими для подразумеваемых в ней частных посылок. Таким образом, универсальные принципы были индуцированы юристами путем синтеза отдельных казусов римского права, общих признаков отдельных видов прецедентов: синтезировались нормы – в принципы, принципы – в целостную систему права, путем их соотнесения с частностями в предикации. Причем каждая норма считалась видом родового понятия «право». Они использовали различные части права для построения целого, а целое – для толкования каждой отдельной части. Дж. Г. Берман писал: «Парадоксальным образом схоластический метод предполагал, что в тексте могли быть и противоречия, и лакуны, поэтому своей главной задачей он ставит суммировать текст, закрыть лакуны, и разрешить существующие внутри него противоречия».
Таким образом, с одной стороны, средневековые юристы в методологических целях использовали диалектику Платона и Аристотеля. С другой стороны, с точки зрения знаменитого спора об «универсалиях», противостояние номинализма и средневекового реализма, этого своеобразного продолжения и развития «линий» Платона и Аристотеля, оп- ределяющую роль в систематизации законодательства сыграл номинализм. Как отмечал Дж. Г. Берман, реализм, в том смысле, как его понимал Платон, был совершенно чужд деятельности средневековых юристов XII века по разделению, толкованию, классификации, синтезу, различению, гармонизации, обобщению той массы канонов, обычаев, решений, указов, законов, постановлений и других юридических материалов, которые составляли правовой порядок того периода. Конкретные правовые институты и нормы было невозможно вывести из неких абстрактных принципов последовательности, процедурной правильности, справедливости – в результате могла получиться слишком абстрактная система. Тем не менее две линии продолжали существовать как направления легизма и естественного права в юриспруденции.
Представители школы постглоссаторов (XIII–XV вв.) основное внимание уделяли толкованию самих глосс, обращаясь к идеям естественного права и учениям римских юристов. Раймонд Луллий (1234/1235–1315 гг.) сформулировал ряд основных положений этой школы. Он стремился к компромиссу между позитивным и естественным правом, используя логические методы и приемы. С начала XVI века влияние школы постглоссаторов заметно ослабевает. Это время возникновения так называемого гуманистического направления в юриспруденции. Его представители выступали за кодификацию позитивного права, единое светское законодательство [1, c. 29].
Таким образом, в европейском праве ле-гистский подход к пониманию права зарождается в раннем Средневековье. Именно тогда на базе правовых обычаев германских племен и рецепции римского права начинают создаваться первые королевские кодексы. Значимую роль в формировании формальнодогматического метода сыграла школа глоссаторов, разработавшая на основе толкования источников римского права методологию анализа и синтеза позитивного права, которая позволяла объяснять смысл отдельных законов, логически последовательно излагать учения о праве, систематизировать полученные знания, не выходя за рамки источников права. При этом «проблему соотношения права и закона, справедливости (aequitas) и позитивного права при наличии противоречий между ними глоссаторы решали в пользу официаль- ного законодательства и в этом смысле они были законниками, стоящими у истоков европейского средневекового легизма» [8, c. 547].
Развитие легистского правопонимания в Новое время, несомненно, связано с именем Т. Гобса (1588–1679 гг.). Английский философ и политический мыслитель Т. Гобс в своей работе «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» показывает необходимость соблюдения каждым установленных государством законов. Под гражданскими законами он понимает законы, которые люди должны соблюдать не только как члены того или иного конкретного государства, а как члены государства вообще: «Ибо частные законы надлежит знать тем, кто занимается изучением законов различных стран, но гражданский закон вообще надлежит знать любому» [3, c. 218].
Следующей заметной фигурой, представляющей позитивистскую юриспруденцию, является английский юрист Дж. Остин (1790– 1859 гг.). Самая известная работа Остина «Определение области юрисруденции» опубликована в 1832 году. Являясь сторонником юридического позитивизма и стремясь очистить представления о различиях между правом и нравственностью от неправильных, по его мнению, доктрин естественного права, он пришел к выводу о том, что «предмет юриспруденции составляет позитивное право, право устанавливаемое политически господствующим для политически подчиненного» [10, c. 223].
Правом в своем наиболее общем и полном значении, буквально обозначаемом самим этим термином, может быть определено как правила, предназначенные для управления поведением одного разумного человека со стороны другого разумного человека, обладающего властью над первым. Задачу легист-ской теории права Остин и его последователи видели в юридико-догматическом анализе основных правовых категорий, поэтому данное направление получило также название «аналитической юриспруденции» или «аналитической теории права».
В современной научной литературе аналитическая юриспруденция считается одной из разновидностей юридического позитивизма. С точки зрения данного подхода нормы закона рассматриваются как единственные критерии оценки, никакие моральные критерии не допускаются. Норма права не может оцениваться ни в качестве «хорошей», ни в качестве «дурной». Она либо обладает действительностью, то есть соответствует норме более высокого порядка, согласно учению Г. Кельзена, либо не существует как правовая норма. В связи с этим, как отмечает А. Л. Зол-кин, в области этики невозможна никакая рациональная дискуссия, она объявляется «бессмысленной», так как эмпирическая проверка этических высказываний невозможна, а лишенный смысла тезис нельзя ни оспаривать, ни обсуждать [4, c. 66].
Особенности английской правовой системы прецедентного права, в рамках которой законы играют вспомогательную роль, предопределили и специфику сформировавшегося здесь направления легистского позитивизма, которое называют «позитивизмом решений» в отличие от «позитивизма законов», получившего распространение в странах континентальной Европы, относящихся к романогерманской правовой семье [6, c. 40].
Основоположником другой разновидности легистской юриспруденции – юриспруденции интересов – является Р. Иеринг (1818– 1892 гг.). С точки зрения данного подхода, процесс познания права связан не с анализом текстов законодательства, а с исследованием социальных интересов и целей общественного развития, которые находят отражение в законодательных решениях. Предназначение права, по мнению Р. Иеринга, состоит в отражении правом именно общих интересов в противовес агрессивному, угрожающему общему началу частного интереса. В связи с этим он определял право в качестве защищенных государством интересов. С точки зрения учения Р. Иеринга, социологическое объяснение процесса формирования права – результата борьбы различных интересов в обществе – связано с позитивистским подходом к праву как системы установленных государством принудительных норм, которое принимает решение, какой из интересов необходимо взять под защиту. Защищенный интерес – это интерес, защищенный государством при помощи закрепления его в законодательстве, реализация которого обеспечивается силой государственного принуждения. Таким образом, концепция права Р. Иеринга при всей внешней социологичности не выходит за рамки легист-ского правопонимания. Однако глубокое понимание правообразующего значения социальных интересов, борьба которых является главным источником правового развития, позволило ему существенно расширить границы юридико-позитивистского подход [6, c. 40]. «Право, – писал он, – есть непрерывная работа, притом не одной только власти, но всего народа. Вся жизнь права, взятая в ее целом, являет перед нами такое зрелище неустанного напряжения и труда со стороны всей нации, какое представляет деятельность последней в области экономического и духовного производства. Всякое отдельное лицо, которому приходит нужда отстаивать свое право, имеет свою долю участия в этой национальной работе, по мере своих сил способствует осуществлению на земле идеи права» [5, c. 442].
В отличие от юриспруденции интересов, которая связывает легизм с элементами социологического подхода, юриспруденция понятий, формально-догматическая юриспруденция, основывается исключительно на ле-гистском типе правопонимания. По словам Г. В. Мальцева, в юриспруденции понятий «законнический позитивизм достиг своего апогея». Право полностью отождествляется с законом, который трактуется абсолютно формально [7, c. 158]. Указанному типу правопо-нимания присуще стремление очистить норму закона от любых связей с каким-либо социальным контекстом.
Формирование легизма как самостоятельного научного направления в рамках европейской правовой мысли было обусловлено, с одной стороны, потребностями промышленного развития Европы, требовавшего создания системы обеспеченных силой государственного принуждения и внутренне непротиворечивых нормативных регуляторов, а с другой – укреплением абсолютизма, нуждавшегося в легитимации процессов централизации власти. Правовое отражение в рамках легист-ского типа правопонимания опиралось на прагматический, инструменталистский подход к праву как к средству решения тех или иных внеправовых задач. Взлету влияния этого направления на юридическую науку и практику к ХIХ веке в странах Европы во многом способствовали процессы кодификации действующего законодательства. «Освободив» юриспруденцию от теоретической неопределенности естественно-правового подхода, позитивизм, подкрепленный ресурсами государственного принуждения, способствовал утверждению законности, что в целом отвечало потребностям развития государства эпохи модерна.
Список литературы К вопросу о понятии правового отражения: легистский тип правопонимания
- Баранов, П. П. Философия права/П. П. Баранов, В. Ю. Верещагин, В. И. Курбатов, А. И. Овчинников. -Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2004. -831 c.
- Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/Г. Дж. Берман. -М., 1994. -624 c.
- Гобс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского: в 2 т./Т. Гобс. -М., 1991. -Т. 2. -364 c.
- Золкин, А. Л. Аналитическая школа права и аналитическая философия/А. Л. Золкин//«Черные дыры» в Российском законно дательстве. -2005. -№ 2. -С. 66-69.
- Иеринг, Р. Борьба за право. Антология мировой правовой мысли/Р. Иеринг. -М., 1999. -Т. III. -442 c.
- Лапаева, В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: монография/В. В. Лапаева. -М.: Российская академия правосудия, 2012. -477 c.
- Мальцев, Г. В. Понимание права: Подходы и проблемы/Г. В. Мальцев. -М., 1999. -419 c.
- Нерсеянц, В. С. Философия права/В. С. Нерсеянц. -М., 1999. -652 c.
- Четвернин, В. А. Введение в курс общей теории права и государства/В. А. Четвернин. -М., 2003. -204 c.
- Lloyd D., Freeman M. Introduction to Jurisprudence. -L., 1979. -457 p.