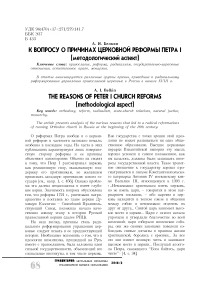К вопросу о причинах церковной реформы Петра I (методологический аспект)
Автор: Белкин Алексей Иванович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются различные группы причин, приведшие к радикальному реформированию управления Православной церковью в России в начале XVIII века.
Православие, реформа, радикализм, государственно-церковные отношения, естественное право, монархия
Короткий адрес: https://sciup.org/14720554
IDR: 14720554 | УДК: 94(470)
Текст научной статьи К вопросу о причинах церковной реформы Петра I (методологический аспект)
The article presents analysis of the various reasons that led to a radical reformations of running Orthodox church in Russia at the beginning of the 18th century.
О реформах Петра вообще и о церковной реформе в частности написано немало, особенно в последние годы. Но часто в этих публикациях характеризуют лишь поверхностную сторону реформы и ее причины объясняют односторонне. Обычно их сводят к тому, что Петр I рассматривал церковь как реакционную силу, оказывавшую поддержку его противникам, не желавшим принимать западную ориентацию нового государя [см., напр. 1, с. 456]. Однако проблема эта далеко неоднозначна и имеет глубокие корни. Значимость вопроса обусловлена тем, что реформа 1721 г., уничтожив патриаршество и поставив во главе церкви Духовную Коллегию —Святейший Правительствующий Синод, положила начало качественно новому этапу в истории Русской православной церкви (далее РПЦ).
На наш взгляд, причины столь радикального реформирования управления церковью следует искать в ее предшествующей истории. Необходимо вспомнить о том, что в идеологии византизма, пришедшей на Русь вместе с православием, была заложена идея сильной государственности, объемлющей все социальные институты, в том числе церковь.
Вне государства с точки зрения этой идеологии не может развиваться ни одно общественное образование. Высшие церковные иерархи Византийской империи эту мысль хорошо усвоили и самим положением, как им казалось, должны были защищать интересы государственной власти. Такое трепетное отношение к государству хорошо просматривается в письме Константинопольского патриарха Антония IV московскому князю Василию III, относящемуся к 1393 г. «...Невозможно христианам иметь церковь, но не иметь царя, —говорится в этом патриаршем послании, —ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собою и невозможно отделить их друг от друга... Святой царь занимает высокое место в церкви... Цари с самого начала упрочили и утвердили благочестие во всей вселенной; цари собирали вселенские соборы, они же своими законами повелели соблюдать святые догматы и правила жизни христианской, боролись с ересями... За все это они имеют великую честь и занимают высокое место в церкви... Послушай апостола Петра, сказавшего: “Бога бойтесь, царя чтите” ■ [4, с. 34].
ГУНАМ ТАРАН: а к т у а л ь н ы е п ро бл е м ы
ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Следует обратить внимание и на другое известное послание, ставшее основой знаменитой теории «Москва — Третий Рим-. В нем псковский монах Филофей разворачивает перед московским князем Иваном III целую систему отношений церкви и государства. «И да ведает твоя держава, —благочестивый царь, — наставляет Филофей московского правителя, — что все царства православной христианской веры сошлись в твое единое царство: один ты во всей поднебесной христианам царь...- [4, с. 31]. Таким образом, после падения Византии в 1453 г. русский правитель должен был соблюсти единственный сохранившийся в мире остаток истинной веры нерушимым до второго пришествия Христа. Те задачи, о которых говорит Филофей, по существу, принадлежат к сфере интересов церкви, но ни одной из них псковский монах не доверяет духовенству, требуя и ожидая их решения только от государственной власти. «...В требовании и ожидании, какие Филофей развивает в послании к великому князю, — пишет В. О. Ключевский, —звучит ссамоотречение русского духовенства....Приобретение автономии русской церковной иерархией сопровождается косвенным сознанием ее бессилия перед задачами, выполнение которых только и могло оправдать ее коренные права на существование - [3, с. 349].
Косвенным подтверждением этой оценки В. О. Ключевского является идеология иосифлянства, сущность которой можно выразить следующей формулой: поддерживать государственную власть и за это пользоваться ее поддержкой. Иосиф Волоцкий был готов считать торжество московских государственных порядков торжеством церкви и содействовал укреплению великокняжеской власти всеми возможными средствами. Он призывал государственную власть на защиту церковных интересов, считая наказание еретиков прямой обязанностью государей. Служители церкви не могут лишать жизни еретиков, считал Иосиф, это должны делать правители государства: «О царях же князьях и судьях говорят святые апостолы, что приняли они власть от Господа Бога для наказания преступников и поощрения добродетельных... Где они, говоря- щие, что нельзя осуждать ни еретика, ни вероотступника? Ведь очевидно, что следует не только осуждать, но предавать жестоким казням, и не только еретиков и вероотступников: знающие про еретиков и вероотступников и не донесшие судьям, хотя и сами правоверны окажутся, смертную казнь примут- [7, с. 331, 333, 335].
Ничего не имея против вмешательства князя в дела церкви, открывая даже этому вмешательству широкий простор, Иосиф выхлопотал себе взамен покровительство власти в самом насущном для него и для всей церкви вопросе — о монастырском имуществе.
Даже патриарх Никон, вознамерившийся поставить церковную власть выше государственной, признавал, что «меч царский должен быть готов на неприятелей веры православной- [6, с. 211—212], оставаясь в данном случае на позициях иосифлянства. Попечение царя о церковном благочинии и благоустроении получило формальное выражение в Соборном Уложении 1649 г., где есть глава о богохульниках и церковных мятежниках. Богохульников царь обязался искать и казнить.
Таким образом, этот краткий исторический экскурс показывает совершенно очевидную вещь: к началу XVIII в. в отношениях государства с церковью сформировалось твердое убеждение об определяющей роли государства в церковной жизни, выросшее и укрепившееся на почве идеологии византизма. Эти обстоятельства можно обозначить как исторические причины церковной реформы.
Оказало влияние на проведение церковной реформы, на наш взгляд, негативное отношение к византийскому православному богословию, сформировавшееся на протяжении XV—XVII вв. Немалую роль в этом сыграл Флорентийский собор, заключивший в 1439 г. с Константинопольской церковью унию, которая вошла в историю под названием Флорентийской.
Исторические обстоятельства, побудившие Константинопольский престол подписать этот документ, сложны и противоречивы. В то время от Византии, по существу, оставался один только Константинополь, а почти вся остальная территория была занята турками. Воссоединение Константинопольской патриархии с Римом могло бы дать ей надежду на военную помощь со стороны западных государств и, может быть, на провозглашение крестового похода против турок. Это побудило и Константинопольского патриарха, и византийского императора вести переговоры с католической церковью о возможности и условиях воссоединения. Переговоры шли долго. Каждая сторона упорно торговалась из-за условий соглашения. Наконец унию заключили на условиях полного подчинения Константинопольской церкви Риму и признания его правоты во всех прежних литургических и догматических разногласиях. Но эта уния не была претворена в жизнь. Когда подписавшие ее византийцы вернулись в Константинополь, их встретило всеобщее негодование народа и духовенства. Уже сам этот факт исключал всякую возможность реализовать документ на деле.
В 1453 г. пала Византийская империя. Поверив в исключительную миссию по сохранению христианского вероучения после ее падения, русские богословы, сталкиваясь с расхождением между русскими и греческими вероучительными книгами, чаще всего объясняли эти расхождения так: греки отступили от первоначального православия, русские же сохранили его нерушимым. Понятно в этом случае, что при разнице церковных форм предпочтение отдавалось национальным русским традициям в области богослужения. Именно они считались истинно православными. Эти случаи разницы с греческой церковью не скрывали, а, наоборот, выдвигали на первый план. Именно такие случаи расхождений, как считали русские богословы, и доказывали, что греческое православие испорчено, а русское —нерушимо. Поэтому высшая и важнейшая задача русской церкви — особенно тщательно охранять все то, что не похоже на греческое. Даже мелкие отличия церковной практики стали предметом пристального внимания.
Таким образом, греческий авторитет был отвергнут и русские церковные иерархи стали видеть лучшее доказательство правоты национальных особенностей как раз в том, что <олатыневшаяся «обусур-манившаяся- греческая церковь уже так не делает. В разнице формы усиленно старались найти и обличить разницу духа. Если в греческой церкви не крестятся двумя перстами и трижды произносят <аллилуйя-, тем хуже для нее. Значит она прежде всего верует в догмат Святой Троицы и неверно понимает отношения между есте-ствами Богочеловека. Если греки при совершении крестных ходов ходят не по солнцу, а против солнца, стало быть, они отказываются идти во след Христу и наступят на ад, страну мрака. Таких расхождений можно было бы привести еще очень много.
Киевские ученые монахи, допущенные к изданию богослужебных книг на Московском печатном дворе, сличая русские тексты с греческими оригиналами, обнаружили в русских книгах множество позднейших вставок, не имевших никакого отношения к греческому канону. Ссылаясь на греческие тексты, они пытались доказать это русским богословам, но тщетно. Доводы киевских ученых монахов резко противоречили общепринятой национальной теории.
Специалисты ссылались на греческие книги, но мнение русских иерархов о греческой церкви нам хорошо известно. Поэтому ссылка на греческие оригиналы была совершенно неубедительна в глазах ревнителей русской старины. На Руси было к тому же известно, что после падения Константинополя греческие книги печатаются в католических странах. На этом основании считали, что все они заражены «латинской ересью-, как и греческая вера. Истина, с точки зрения русского богословия, была на стороне русских церковных текстов. Весьма показательно в этом смысле послание митрополита Палеопатрасско-го Феофана молодому царю Алексею Михайловичу, относящееся к 1645 г. В этой челобитной он писал: «Буди ведомо, Державный Царю, что велие есть ныне бессилие во всем роде православных христиан и борение от еретиков, потому что папежи и люторы имеют греческую печать. И печатают повседневно богословские книги Святых Отец. И в тех книгах вмещают лютое зелие и поганую свою ересь - [2 с. 313].
ГУМАНИТАРИЙ: актуальные
Таким образом, ставка на грекофильство, предпринятая собором 1666—1667 гг., была формальной и никаких новых идей Русской церкви дать не могла. Сама мысль об оскудении православного богословия закрыла путь на Восток при определении дальнейшей судьбы церкви в начале XVIII в.
Русское общество пребывает в поиске новых идей. Образованная элита, которую поддерживает Петр I, обращается к теории «естественного права-, которая была популярна в то время на Западе. Напомним, что согласно этой теории право имеет человеческое происхождение, но, несмотря на это, оно необходимо, поскольку его сущность вытекает из общей человеческой природы. Правовые принципы, правила, ценности происходили, таким образом, из естественной человеческой природы. Наивысшее социальное звучание идея «естественного права- получила в XVII—XVIII вв. Идеологи Просвещения Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбах, А. Н. Радищев широко использовали эту идею для критики существующих общественных порядков.
Напомним, что одним из первых в развернутом виде эту концепцию представил английский философ Т. Гоббс в работе «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского-, вышедшей в Лондоне в 1651 г.
Исходной точкой рассуждений Т. Гоббса об общественном устройстве и государстве является «естественное состояние людей -. Оно характеризуется естественной склонностью людей вредить себе взаимно. Эта склонность вытекает из человеческих страстей, но главное, из тщеславного самолюбия, «права всех на все-. Это приводит к тому, что естественным состоянием людей, прежде чем они вступили в общество, была «война всех против всех-. В этой войне, считал Т. Гоббс, не может быть победителей. Ведь она выражает ситуацию, в которой каждому угрожают все. Выход из нее автор «Левиафана- видит в образовании общества, которое может покоится лишь на согласии интересов. Согласие же обеспечивает общественная власть, держащая в узде и направляющая все действия людей к общественному благу. Единственный путь к созданию такого состояния общества —передача всей «власти и силы - одному человеку или группе людей. Такая общественная власть должна опираться на добровольное отречение от права владеть собой. В результате этого «добровольного отречения- и возникает государство, которое ставит на место законов природы законы общества. Этим оно, собственно, ограничивает естественные права (договор, на основе которого возникает государство) гражданским правом. Гражданские права являются ни чем иным, как естественными правами, перенесенными на государство. Так как естественные права (права человека в естественном состоянии) были неограниченны, неограниченны и права государства, и обязательность гражданских законов.
Очевидно, что Т. Гоббс являлся сторонником абсолютной государственной власти, считая, что только она способна устранить все остатки «естественного состояния-, споры и беспорядки.
Надо видеть, что в теории «естественного права- сочеталось почитание Бога как творца мира с представлением о том, что «неземная сила - не может вмешиваться в единожды созданный порядок вещей. Значит, соображения просвещенных людей о переустройстве общественных порядков ставились в меньшую зависимость от богословских канонов.
Говоря о воплощении в России начала XVIII в. идей «естественного права-, следует ясно представлять всю глубину различия отношений между церковью и государством в России н Западной Европе. На Западе, где католицизм безраздельно господствовал до XVI в., исторически сложилось так, что церковь, имея независимый надгосударственный центр, была (особенно в раннее Средневековье) в значительной степени неподконтрольна государству. Поэтому идея о неограниченной государственной власти, воплощенная в теории «естественного права -, имела, как нам представляется, объективные основания.
Совсем иная ситуация, как известно, сложилась в России. Здесь влияние государственной власти было всеобъемлющим.
Как, собственно, ранее в Византии, светские правители очень часто диктовали свою волю церкви. Если в католических странах или странах, переживших Реформацию, воплощение в жизнь теории <естественного права- способствовало установлению гармоничных отношений между светской и церковной властями, то в России реализация этих идей лишь усугубила ситуацию в государственно-церковных отношениях. Мотивы свободы теории <естественного права- были жестко ограничены. В этих условиях признавалось, что первейшим принципом заботы государства об общем благе является постоянная и неустанная правительственная регламентация всей жизни поданных, опека над всеми их поступками.
Основы теории «естественного права-весьма своеобразно развивались в документах правительства Петра I, в сочинениях духовенства, вернее сказать, той его части, которая поддерживала императора-реформатора. Лидером этой группы духовенства был Феофан Прокопович —один из образованнейших людей того времени. Переехав в 1716 г. Из Киева в Петербург, он стал верным помощником Петра I в проведении церковной реформы и в 1721 г. стал вицепрезидентом Синода.
В книге «Правда воли монаршей-Феофан Прокопович высказал представления о том, какой должна быть государственная власть. Их можно свести к следующим тезисам:
-
1) государство обладает верховенством, а потому всякая иная власть (включая церковную) верховенством не обладает и юридически подчиняется государственной власти;
-
2) верховная государственная власть повинуется только Богу и никаким человеческим нормам, в том числе церковным канонам.
-
3) судьей того, соответствует ли решение государственной власти Воле Божьей или нет, является сама же государственная власть.
Вот такую форму на русской почве приобрели идеи «естественного права-. Фактически получилось так, что развитие государственно-церковных отношений в Западной Европе пошло по пути отделения церкви от государства, а в России —по пути слияния церкви и государства при доминировании последнего. Государство, регулируя все стороны жизни граждан, превратилось в России в некое абсолютное начало, став, по сути, полицейским, тоталитарным.
Обратим внимание на еще одну причину церковной реформы, связанную со стремлением Петра I придать динамизм начатым им преобразованиям. Церковь рассматривалась как существенная помеха на пути проводимых царем реформ. И, надо сказать, не без оснований. Весьма характерным выражением скрытого сопротивления духовенства служит окружное послание ко всей пастве, написанное патриархом Адрианом вскоре после интронизации на престол в 1690 г. Лейтмотив этого документа —идея о превосходстве священства над царством. Обращение к пастве патриарх заканчивает весьма претенциозно: «...Неслушающие гласа моего архипастырского не нашего суть двора, не суть от моих овец, но козлища суть... Слушаяй бо меня —Христа слушает, а ометаяйся меня и не приемлей глагол моих, рекше Христа Бога отмещает и не слушает - [2, с. 326]. Из этого послания следует, что по представлениям патриарха Адриана государственная власть должна была с покорностью слушаться голоса архипастыря.
Понятно, что ни теоретически, ни практически совместить точки зрения Петра и патриарха было невозможно. Уже вскоре после обнародования окружного послания молодой царь указом прекратил дальнейший рост церковного имущества и уничтожил привилегии, которыми пользовалось духовенство. Он вновь ввел в действие все постановления отца, царя Алексея Михайловича, запрещавшее духовенству приобретать земли каким бы то ни было способом. Так же были подтверждены все прежние законы об уничтожении грамот, освобождавшие промыслы духовенства от таможенных пошлин, и отменены все права церковных владельцев на сбор в свою пользу каких бы то ни было пошлин. Правительство теперь стало строго наблюдать за действительным исполнением постановлений, не признававших за духовными владельцами исключительных прав и привилегий.
ГУМАНИТАРИЙ: актуальные
Конечно, не могли не оказать влияния на судьбу церкви не столь отдаленные события из истории государственно-церковных отношений второй половины XVII в. Речь идет о конфликте отца Петра I, царя Алексея Михайловича, с патриархом Никоном по поводу соотношения светской и церковной властей и церковном расколе. Надо отметить, что на формирование взглядов Никона о роли церкви в государстве существенное влияние оказали идеи боголюбцев. Они вели борьбу с искушением в светском обществе, проповедуя реорганизацию человеческих отношений и государственной жизни на началах божественного закона. Церкви в их учении отводилась активная социальная роль. Их усилия по активизации работы церкви увенчались значительным успехом и привели к литургическому обновлению, к широкому развитию проповеди, к пробуждению в сердцах многих людей, включая царя Алексея Михайловича, глубокой веры. Успехи их работы в 1645— 1652 гг. показали, что может сделать в церкви небольшая, но решительная группа клира, поддержанная царской властью. В начале 1650-х гг. многие иностранные посетители и жители Москвы отмечали, что в те годы началось русское религиозное возрождение. Так, например, шведский резидент Родес писал в рапортах, что русские никогда не были так благочестивы и не встречали Пасху с таким напряженным религиозным чувством, как весной 1652 г., когда начали сказываться результаты усилий Неронова, Вонифатьева и их друзей. Родес даже саркастически добавил, что москвичи «ведут себя так, как будто они хотят стать святыми - [5, с. 487].
Достижения боголюбцев показали патриарху Никону возможности работы церкви в государстве, раскрыли перспективы оцер-ковления русской жизни, и, несомненно, его новые друзья заразили его теократической утопией. Став патриархом, Никон упорно стремился к осуществлению этой теократической мечты, к созданию таких отношений между церковью и государством, при которых церковь и церковная иерархия в лице патриарха занимала бы главенствующую роль в стране. Его властный и динамичный характер способствовал развитию этих идей. Но эта же властность придавала его действиям и планам характер, совсем не соот- ветствовавшей ни программе боголюбцев, ни традиции Русской церкви, ни исторической роли патриарха на Руси.
Никон почти дословно повторял аргументы папской власти, когда писал, что, поскольку цари получают помазание от архиереев, и власть они получают от церкви. Из этого следует, что по достоинству и по духовной силе правители государства являются ниже и слабее, чем епископы [5, с. 492].
Весьма примечательно, что в Духовном регламенте от января 1721 г., который обосновывал необходимость церковной реформы, явно содержалось указание на события второй половины XVII в. Там было сказано, что простой народ, удивленный той честью и славой, которой окружен патриарх, может помыслить, что «то второй государь, самодержцу равносильный или больше его, и что духовный чин есть другое и лучшее Государство-. Объяснив таким образом опасность, которая связана с сохранением патриаршего престола, Духовный регламент указал далее на то, что должность президента Духовной коллегии, которая учреждалась вместо патриаршего престола, лишена славы и «светлости - и потому безобидна: «Самое имя президент не гордое есть, не иное что бо значит, только председателя; не может убо ниже сам о себе, ниже кто иной, о нем высоко помышляти, и простой народ весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного - [6, с. 245].
Богословские споры вызвали, как известно, раскол русского православия. Дело доходило и до вооруженной борьбы. Стрелецкий бунт 1682 г., облеченный в форму дерзкого похода на Кремль старообрядческих вождей, оставил в сознании Петра на всю жизнь глубокое отвращение к дикому, темному, невежественному и ничуть не христианскому старорусскому фанатизму. На глазах у десятилетнего мальчика были зверски растерзаны два его родных дяди —Алексей и Иван Нарышкины. Эти бурные и страшные события, свидетелем которых он стал в детстве, в мысли Петра, в какой-то мере оправдывали его решительное наступление на церковь. Фактически получалось так, что одна крайность оправдывала другую.
Рассматривая причины реформы, нельзя исключать и причин личного характера.
Старорусское, фанатичное благочестие преследовало Петра I и в кругу семьи. Его первая супруга, Евдокия Федоровна Лопухина, на которой молодого царя женили против его собственной воли, была безмерно предана суеверному святошеству. Ее постоянно окружали странники, юродивые, кликуши. Это было прямым вызовом Петру. Он сбежал из дома в Немецкую слободу, свободную от этого фанатизма и кликушества. Там сформировались и романтические, и дружеские, и деловые привязанности. Все интеллигенты Немецкой слободы стали для молодого царя учителями, открывающими духовную жизнь Запада. Именно тут будущий реформатор встретил коллегиальную форму церковно-приходского управления протестантских общин, узнал от протестантов об организации церкви в различных странах Западной Европы.
В первое же заграничное путешествие 1697—1698 гг. Петр в гостях у короля Георга в Англии вел двухчасовую беседу с наследной принцессой Анной, в том числе на церковные темы. Он беседовал с архиепископом Кентерберийским и другими англиканскими епископами о церковных делах. Известно, что архиепископы Кентерберийский и Йоркский назначили для Петра I специальных богословов-консультантов.
К ним присоединился и Оксфордский университет, назначивший консультанта со своей стороны. Вильгельм Оранский, ссылаясь на пример Голландии и Англии, советовал Петру стать «главой религии-, чтобы располагать полнотой монархической власти.
Естественно предположить, что уже с того момента Петр задумал применить протестантский образец и в России, но обсудить это ни с кем не решался. И только через десятилетие он нашел себе компетентного единомышленника в лице уже упоминавшегося выше Феофана Прокоповича, ставшего идеологом реформы церковного управления.
В заключение отметим, что мы далеки от идеализации церковной реформы. Она имела самые пагубные последствия как для церкви, так и для российского общества, поскольку полностью уничтожила самостоятельность церкви. Государство в России заполнило все социальное пространство, уничтожив даже возможность развития предпосылок гражданского общества. Эго был, повторим, важный этап становления в России тоталитарного государства. Наиболее точно, на наш взгляд, оценил реформу известный исследователь русского богословия Г. Фло-ровский, назвав то, что получилось в результате, «полицейским мировоззрением с идеями реформации - [8, с. 84].
Список литературы К вопросу о причинах церковной реформы Петра I (методологический аспект)
- Васильев Л.С. История религий. -М.: КДУ, 2008. -791 с.
- Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2, ч. 1. -М.: Прогресс-Культура, 1994. -416 с.
- Ключевский В.О. Православие в России. -М.: Мысль, 2000. -621 с.
- Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого//Памятники литературы Древней Руси. Конец XV -первая половина XVI века. -М.: Художественная литература, 1984. С. 324 -349.
- Русское православие: вехи истории. -М.: Политиздат, 1989. -719 с.
- Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. Т. 2. -М.: ТЕРРА, 1992. -569 с.
- Патриарх Никон: трагедия русского раскола. -М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006. -656 с.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. -Вильнюс, 1991. -602 с.