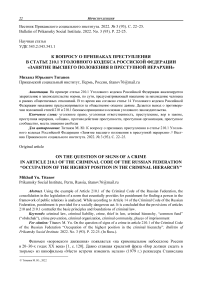К вопросу о признаках преступления в статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии»
Автор: Титанов М. Ю.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 3 (93), 2022 года.
Бесплатный доступ
На примере статьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации анализируется закрепление в законодательстве нормы, по сути, предусматривающей наказание за нахождение человека в рамках общественных отношений. В то время как согласно статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание предусматривается за общественно опасное деяние. Делается вывод о противоречии положений статей 210 и 210.1 базовым принципам и основам уголовного законодательства.
Уголовное право, уголовная ответственность, преступление, вор в законе, преступная иерархия, «общак», противодействие преступности, преступная организация, преступное сообщество, места лишения свободы
Короткий адрес: https://sciup.org/14126309
IDR: 14126309 | УДК: 343.2:343.341.1
Текст научной статьи К вопросу о признаках преступления в статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии»
Феномен «воровского движения» появляется «на криминальном небосклоне России в 20–30-х годах XX века» [1, с. 120]. Давно ставшая крылатой фраза «Вор должен сидеть в тюрьме» из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» (1979 г.) режиссера Станислава
Говорухина по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия» нашла прямое отражение в современном уголовном законодательстве, конечно, в измененном по форме и содержанию виде. Например, ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ) закреплена уголовная ответственность за «занятие высшего положения в преступной иерархии», а именно за наличие соответствующего статуса – «вор в законе», «смотрящий», «держатель воровского общака». Однако указанные статусы в структуре преступной иерархии на сегодняшний день не определены на законодательном уровне.
Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ2 ст. 210 УК РФ дополнена ч. 4, которой на законодательном уровне внесено понятие «преступная иерархия», однако четкого определения данного понятия не дано до настоящего времени. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»3, давая разъяснения по указанному выше составу, в п. 24 поясняет: «Решая вопрос о субъекте преступления, указанного в части 4 статьи 210 УК РФ, судам надлежит устанавливать занимаемое этим лицом положение в преступной иерархии, в чем конкретно выразились действия такого лица по созданию или по руководству преступным сообществом (преступной организацией) либо по координации преступных действий, созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо по разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также другие преступные действия, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе (преступной организации). О лидерстве такого лица в преступной иерархии может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т. п. В приговоре необходимо указать, на основании каких из названных признаков суд пришел к выводу о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 УК РФ». Из приведенной рекомендации Пленума Верховного Суда РФ непонятны структура, форма и нормативно-правовое закрепление понятия «преступная иерархия».
Определяя субъектность лица, являющегося лидером преступной иерархии, необходимо не только четко понимать его роль, но и определить его статус в соответствии со структурой преступной иерархии. Наряду с пониманием различий между преступными группами, преступными сообществами и строгой подчиненностью в преступной иерархии как системе жизнеобеспечения, жизнедеятельности преступных сообществ просматривается активная роль людей, являющихся так называемыми лидерами преступной иерархии, в связи с чем их деятельность квалифицируется по признакам ст. 32 и 33 УК РФ, которые раскрывают понятия и виды соучастия в преступлениях.
Однако если говорить о статусе человека как лица, занимающего какое-либо положение в преступной иерархии, в том числе и высшее, то здесь речь идет не о деянии (действии или бездействии), а о наличии статуса. Тем самым нарушается положение ч. 1 ст. 14 УК РФ, которое предписывает признавать преступлением «виновно совершенное общественно опасное ДЕЯНИЕ (выделено нами. – М. Т.), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Деянием можно признавать активную деятельность лиц в преступных сообществах, которая направлена на завоевание авторитета в преступном мире и напрямую будет выражена в организации, координации, а равно непосредственном участии в совершении преступлений; это само по себе подразумевает не что иное, как уголовную ответственность за соуча- стие в преступлении, закрепленную в ст. 34 УК РФ. В противном случае уважения в преступной среде не заработать. «Занятие лидирующего положения представляет собой масштабную деятельность лица по организации и контролю преступной среды, в том числе реализации преступных планов через созданные организованные группы, входящие в состав преступного сообщества» [2, с. 100].
С введением в УК РФ ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» законодатель в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ трактует это как деяние в форме активного действия, направленное на достижение цели верховенства в преступной иерархии. Таким образом, можно предположить, что преступление будет считаться оконченным в момент признания преступным сообществом статуса лидера субъекта преступления. Это, в свою очередь, будет означать, что все лица, занявшие высшее положение в преступной иерархии до вступления в действие ст. 210.1 УК РФ, в соответствии со ст. 9 УК РФ «Действие закона во времени» не будут являться субъектами преступления.
В соответствии со ст. 210.1 УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Иначе говоря, человек после отбытия уголовного наказания через определенный судом срок, выйдя из мест лишения свободы, может продолжить занимать высшее положение в преступной иерархии и будет неподсуден по данному составу преступления. Таким образом, через процесс отбытия уголовного наказания после выхода из мест лишения свободы он только укрепит свой авторитет в преступном мире.
Если следовать элементарным логическим рассуждениям, то понимание наличия преступной иерархии подразумевает наличие разных по статусу членов, т. е. строгую структурированность и подчиненность лиц, входящих в преступное сообщество. Возникает вопрос: если законодатель определяет как преступное наличие у лица высшего статуса в преступной иерархии, то почему упускается запрещенность, под страхом уголовного наказания, любого иного участия в преступной иерархии?
На наш взгляд, с учетом вышеизложенного, ст. 210.1 УК РФ и положения ч. 4 ст. 210 УК РФ на современном этапе должны быть исключены из уголовного законодательства в связи с их противоречием базовым принципам и основам уголовного законодательства. В первую очередь в этой связи следует обратить внимание на ст. 5 УК РФ «Принцип вины». Цель не может быть виной в виде умысла или неосторожности, преступны могут быть деяния для достижения цели. Если мы рассматриваем занятие высшего положения в преступной иерархии как цель, тогда отсутствует вина как субъективная сторона преступления, значит, и состав преступления будет неполным. Само по себе нахождение человека в том или ином статусе никоим образом не посягает на какие-либо правоотношения в обществе, другими словами, здесь отсутствует объект преступления [3]. В соответствии со ст. 8 УК РФ «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления».
Таким образом, ч. 4 ст. 210 УК РФ не имеет полной понятной формулировки преступной иерархии, не определяет, кто в эту иерархию входит. В ст. 210.1 УК РФ отсутствует как минимум субъективная сторона преступления, а при условии, что преступлением признается само занятие человеком высшего положения в преступной иерархии, т. е. факт его наличия, можно говорить об отсутствии объекта и объективной стороны преступления.
Многие ученые в области уголовного права неоднозначно относятся к существенной части изменений, вносимых в уголовное законодательство РФ. Так, выдающийся ученый современности в области уголовного права и криминологии, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии Н. А. Лопашенко заметила: «Если посмотреть на ту редакцию УК, в какой он был принят, и ту, которая действует ныне, могу с уверенностью сказать: первое, первоначальный вариант УК был лучше, и, второе, тот, первый, вариант мог прекрасно справляться со всеми проблемами, опасностями, бедами, которые встречаются ныне» [4, с. 12].
Список литературы К вопросу о признаках преступления в статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии»
- Напханенко И. П., Кутякин С. А., Брюхнов А. А. Актуальные вопросы противодействия деятельности лидеров преступных группировок в свете применения ст. 210.1 УК РФ // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 4 (143). С. 120–125. EDN: BCEHBA
- Федотова А. В. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии: признаки лидерства и пребывания в статусе // Научный портал МВД России. 2022. № 2 (58). С. 97–102. EDN: HYJYRY
- Колегов К. Н. Статус человека как объект преступления (на примере статьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Правовые, социально-экономические, психологические аспекты обеспечения национальной безопасности: материалы VI Всерос. с междунар. участием студ. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию Прикамского социального института (Пермь, 21 окт. 2021 г.). Пермь, 2022. С. 145–151. EDN: GJCCEF
- Лопашенко Н. А. Уголовно-правовое воздействие в современной России: цифры, факты, парадоксы и иллюстрации // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности: материалы III Всерос. науч.-практ. конф «Саратовские уголовно-правовые чтения» (Саратов, 29–30 марта 2018 г.). Саратов, 2018. С. 9–28. EDN: GVNNWJ.