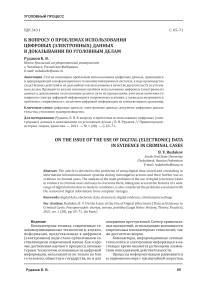К вопросу о проблемах использования цифровых (электронных) данных в доказывании по уголовным делам
Автор: Рудаков Б.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (28), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам использования цифровых данных, хранящихся и циркулирующих в информационных телекоммуникационных системах, в ходе производства следственных действий и их дальнейшего использования в качестве доказательств по уголовным делам. Проводится анализ основных проблем использования цифровых (электронных) данных в доказывании по уголовным делам и пути их преодоления, учитывая особенности широкого спектра цифровой информации в современных условиях, а также рассматриваются проблемы, сопряженные с изъятием цифровой информации из компьютерных хранилищ.
Цифровые данные, электронные данные, документ, цифровые доказательства, уголовное судопроизводство
Короткий адрес: https://sciup.org/14119522
IDR: 14119522 | УДК: 343.1
Текст научной статьи К вопросу о проблемах использования цифровых (электронных) данных в доказывании по уголовным делам
Ведение
Компьютерная техника, современные телекоммуникационные технологии и, в целом, информация, представленная в цифровом (электронном) виде стали органичными составляющими современной жизни. Как и прочие достижения научного прогресса, компьютерные технологии, основанные на цифровой информации, используются не только во благо человека, общества и государства, но и для совершения преступлений. Спектр криминальных проявлений, использующих возможности современных компьютерных технологий, так же достаточно широк.
Компьютеры, информационные сетевые технологии и электронная информация в настоящее время являются рутинными элементами повседневной действительности.
Процессы информатизации развиваются в современном мире с чрезвычайной скоростью, что, наряду с глобализацией, приводит к существенным качественным изменениям практически всех сторон деятельности человека. Бурное развитие информационных технологий привело к образованию нового виртуального информационного пространства. Такой мощный процесс не мог не оказать влияние и на преступную деятельность, как объективную составляющую социума.
Современных преступников в глобальной информатизации привлекает множество ее особенностей, не нашедших пока отражения в законодательстве.
Так, в настоящее время существующее информационное пространство фактически не имеет границ, постольку может находится под юрисдикцией какого-либо одного государства лишь частично [3, с. 55], постольку, поскольку на территории конкретного государства находится оборудование, осуществляющее обработку, накопление и передачу информации. Сама же информация передается практически глобально, быстро и без ограничений. Соответственно, преступники получают возможность осуществлять удаленную и, как правило, достаточно стойко зашифрованную связь между соучастниками, находящимися, порой, в различных государствах, что привело в настоящее время к сильнейшему росту количества и массовости экстремистских движений, трудно контролируемый правоохранительными органами оборот денежных средств, полученных преступным путем, возможность реализации наркотических средств и т. п. [10, с. 199]
Описание исследования
Явление информатизации находит отражение и в деятельности по противодействию преступности. Электронные носители информации были включены в Уголовно-процессуальный закон России как новый вид вещественных доказательств1. Как и любое явление, информатизация общества несет в себе две единых противоположности.
С одной стороны, цифровые данные образуют, как правило, электронные следы, которые позволяют судить о совершении человеком различных действий с материальными устройствами в информационном пространстве [9, с. 25]. Практика правоохранительной деятельности свидетельствует о том, что работа с такими следами позволяет эффективно выяснить объективную истину по уголовным делам. К электронным следам можно отнести также видеофиксацию расследуемого (фиксируемого) события (его приготовления, совершения или сокрытия), которую можно получить с различных устройств фиксации видеоизображения ( автомобильных видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, цифровые фотоснимки и видео-, аудиозапись смартфонов и видео-фотокамер, GPS-навигаторов, информацию, сохраненную в памяти различных электронных устройств (терминалы платежных систем банков, паркоматов электронные валидаторы городского транспорта, коммунальных и иных услуг и др. [1; 8, с. 301].
С другой стороны, работа с классическими вещественными доказательствами преступной деятельности прошла достаточно длительный период совершенствования, нашла достаточно полное отражение в процессуальных нормах права и продолжает гармонично развиваться, используя современные достижения науки и техники.
В отличие от «классических» вещественных доказательств, цифровые данные по своей природе виртуальны, могут быть изменены (уничтожены, созданы), и на настоящем этапе развития наук и технологий зачастую не позволяют с достаточной для доказательственной степени объективности выявить и зафиксировать следы таких воздействий и вызывают достаточно обоснованные сомнения в достоверности полученной цифровой информации.
Объективная реальность такова, что в настоящее время законодатель в сфере совершенствования уголовно-процессуального законодательства практически не успевает за развитием информационных технологий. Своевременное определение проблем и отыскание возможных вариантов их преодоления в данном направлении становится как некогда актуальным [6].
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается существенный рост активности законодателя в разработке норм, регулирующих получение, собирание и хранение цифровых доказательств, в рассматриваемом направлении остается множество неразрешенных практических вопросов.
Так, несмотря на то, что в настоящее время цифровая информация может существовать не только в электронном виде, уголовно-процессуальный закон ограничивается только более узким определением «электронный носитель информации» (п. 5 ст. 82 УПК РФ) 2 в контексте особенностей хранения такого вида носителя информации.
Сам по себе электронный носитель информации, не заполненный электронной информацией достаточно редко может являться доказательством как таковым — интерес, как правило, представляет именно хранимая на нем информация. Проблемой может явиться и само значение термина «электронный», поскольку, например, на оптическом диске информация хранится строго говоря не в электронной форме, а при бурном развитии технологий кроме электронной формы могут возникнуть и множество других способов хранения информации, основанные на иных явлениях и процессах, не имеющих отношения к электронной форме существования информации.
Проблема ограничения понятия «электронный» в определенной степени решена в Типовом законе ЮНСИТРАЛ1 об электронной торговле, одобренного 16 декабря 1996 г. Резолюцией 51/162 на 85-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в котором в ст. 2 для обозначения подобного рода информационных источников используется термин «datamessage», который можно перевести как «информационное сообщение» (в оригинале перевода используется не совсем удачный для русской стилистики вариант «сообщение данных») и определяется как «информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но не ограничиваясь ими»2.
Таким образом, представляется целесообразным в свете современных тенденций развития технологий, вместо понятия «электронная информация» использовать термин «машинная информация», а термин «электронный носитель информации» заменить на «машинный носитель информации» как более универсальный3.
Процедура получения электронных доказательств с различных устройств обработки, накопления и хранения цифровой (электронной) информации так же может содержать ряд правовых проб лем.
Согласно п. 2 части 1 статьи 164 УПК РФ «…Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста».
В настоящее время обращение с простыми электронными носителями информации в виде, например, флеш-накопителей является практически бытовым навыком и, по-видимо-му, уже доступно такому достаточно образованному человеку как обычный эксперт-криминалист или сам следователь. Загруженность следователей в настоящее время достаточно велика, а привлечение специалиста для работы с простыми электронными носителями информации потребует от организатора следственного действия дополнительных организационных усилий. На современном этапе развития информационного общества оценивать риск утери или изменения данных электронных носителей в простейших типичных следственных ситуациях вполне может сам следователь, и только при необходимости принимать решение о привлечении к следственным действиям соответствующего специалиста, руководствуясь ограничениями ст. 164.1. УПК РФ «Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий»4. Таким образом, предлагается исключить из п. 2 ч. 1 статьи 164 УПК РФ «…Элек-тронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста» и в случаях, не требующих наличия глубоких специальных познаний, изъятие электронных носителей информации можно производить в отсутствие специалиста.
Другая проблема работы с цифровыми данными возникает в ситуации, когда носитель информации (например, сервер) находится вне территории, непосредственно доступной следователю для проведения изъятия информации в рамках классических видов необходимых для этого следственных действий (осмотр, обыск, выемка). Возможное решение проблемы — направление поручения в соответствующие территориальные следственные подразделения, как правило потребует значительного времени, что сопрягается с возможной потерей необходимой информации из-за возможного намеренного противодействия либо динамики изменения данных работающих устройств обработки информации.
Решением проблемы получения информации с удаленного источника в перспективе могли бы стать варианты развития и введения в процессуальную практику такого вида следственного действия, как дистанционное получение компьютерной (машинной) информации. Данный подход потребует, безусловно, проработки значительного количества процессуальных деталей, внедрения в процессуальную практику специальных элементов электронного делопроизводства и преодоления инертности осторожного в технических новациях законодателя. К сожалению, к настоящему времени даже попытки внедрения в процессуальную практику дистанционного проведения таких, относительно простых в оценке участниками процесса следственных действий, как допрос, предъявление для опознания и т. п. пока отвергается законодателем [5, с. 108].
В пользу возможности в будущем процессуальной реализации дистанционного получения компьютерной информации следует отметить, что такое действие возможно посредством доступа к интересующей информации с компьютера, оснащенным специальным программным обеспечением, управляемого специалистом. При этом достаточно давно существуют и используются в оперативной практике программно-аппаратные средства, позволяющие объективно фиксировать весь спектр необходимых для доказывания данных в отношении получаемых дистанционно информации. По сути, при получении удаленного доступа к интересующему накопителю информации создается программно-аппаратный комплекс, в котором роль интерфейса выполняет компьютер специалиста, а один из носителей данных находится на удалении, но физически связан с интерфейсом. Насколько принципиальным в процессуальном плане является физическая длина проводника между интерфейсом и накопителем интересующей информации? Следует учесть, что и при обычных следственных действиях рабочая станция, управляющая сервером с массивом жестких дисков, содержащих изымаемые данные, может находиться в разных с ним помещениях и соединятся с ним достаточно сложными и физически достаточно длинными каналами передачи данных. С какой дистанции удаления одного компонента от другого в данном случае станет невозможным проведение классических следственных действий, ставящих целью получение компьютерной информации? Для решения подобной проблемы следует учитывать возможности оперативно-розыскной деятельности, в рамках которой с 2019 года1
был веден такой вид оперативно-розыскного мероприятия как Получение компьютерной информации. При решении вопросов санкционирования таких мероприятий так же следует учитывать, что в момент доступа к интересующей информации специалист и программно-аппаратный комплекс (т. е. по количеству компонентов большая часть системы) будет локализован в пространстве под юрисдикцией конкретных судебных властей и только носитель информации — на удалении.
Полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия результаты в дальнейшем будут предоставляться органам дознания, следователю или в суд в соответствии с процедурой, установленной Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд2.
Возможности развития процессуальных действий с целью дистанционного получения компьютерной информации открывает Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185, в соответствии с которой «в случае, когда компетентные органы производят обыск или получают аналогичный доступ к определенной компьютерной системе или ее части… и имеют основания полагать, что искомые данные хранятся в другой компьютерной системе или ее части…, и когда такие данные на законном основании могут быть получены из первой системы или с ее помощью, такие органы имели возможность оперативно распространить производимый обыск или иной аналогичный доступ на другую систему» (ст. 19)3. Присоединение России к этой конвенции и внесение соответствующих изменений в УПК позволило бы значительно оперативней противодействовать киберпреступности, особенно учитывая, что значительное количество интересующих правоохранительных органы данных хранится на серверах, расположенных за рубежом, а так же в физически распределенных облачных хранилищах на которых проведение классических следственных действий либо крайне затруднено, либо в рамках существующих правовых норм и состояния международных взаимоотношений невозможно1.
В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы предлагались возможные пути ее решения посредством внедрения в уголовный процесс такого следственного действия как «обыск посредством удаленного доступа» [4, с. 87].
В качестве одного из аргументов против внедрения в практику «обыска посредством удаленного доступа» приводится то, что в отличие от классического обыска не происходит изъятия самого исходного материального носителя информации, а только лишь копирование информации с него, что, по мнению оппонентов, неминуемо приводит к модификации исходных данных, и, как следствие, утрате ими доказательственного значения. Но ведь и в ходе ставшей классической фиксации обстановки в ходе проведения следственных действий на фотопленку с последующей печатью с нее фотографий на основе фотохимического процесса так же происходит определенная модификация и потеря информации (изменение параметров контрастности, цветности, потеря определенных деталей в следствии ограничения разрешающей способности и т. п.). Тем не менее не предлагается представлять суду саму обстановку на месте следственного действия, а ограничиваются фотографиями. Таким образом, основной проблемой внедрения в практику «обыска посредством удаленного доступа» являются сомнения в полноте достоверности получаемой в результате его проведения информации. В этой связи предлагается для проведения «обыска посредством удаленного доступа» разработать и применять специально разработанное, прошедшее государственную сертификацию программно-аппаратное обеспечение, методику действий и подготовленного и сертифицированного специалиста, которые сведут к допустимому минимуму искажение получаемой информации.
Проблема укрепления степени достоверности представляемой в уголовном процессе информации может быть в значительной степени решена техническими способами.
Современное состояние развития информационных технологий дает возможность аутентификации электронной (цифровой) информации с помощью электронной цифровой подписи2, которая в соответствии с действующим законодательством обладает юридической силой3.
Электронная цифровая подпись — это реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации (ее шифрования с использованием специального программно- аппаратного обеспечения), позволяющий проверить отсутствие изменения информации (целостности), в электронном документе после формирования электронной подписи под электронным документом, принадлежность подписи владельцу (авторство), а в случае успешной идентификации подписи подтвердить сам факт подписания электронного документа (неотказуемость). Таким образом, сформированная электронная цифровая подпись связана как с автором, так и с самим документом с помощью криптографических методов, и не может быть подделана с помощью обычного копирования, а документ изменен после его подписания.
Встраивание в специальные технические средства специализированных программно-аппаратных компонентов с уникальными неизменяемыми электронными цифровыми подписями, привязанными к конкретному устройству, и, соответственно, к формируемой в результате его применения цифровой (электронной) информации наряду с использованием персональной электронной цифровой подписи лицом, проводящим следственное действие, при соответствующем организационном и нормативном обеспечении может в значительной степени решить проблему обеспечения достоверности и допустимости фиксируемой цифровой (электронной) информации [7, с. 50], которую в последующем предполагается использовать в доказывании по уголовным делам.
За рубежом уже достаточно давно внедряются и апробируются методы работы с электронными (цифровыми) материалами в качестве доказательств [2; 11, с. 137]1, 2, 3, даже в таких далеких странах, как Занзибар4.
-
1 Bazin, Philippe. (2008). An Outline of the French Law on Digital Evidence. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review , Vol. 5, pp. 179–182. URL: http://sas-space.sas . ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf (дата обращения: 11.01.2021).
-
2 Jolita Kančauskienė. Computer forensics and electronic evidence in criminal legal proceedings: Lithuania’s experience. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review , 2019, Vol. 16, pp. 11–24. URL: https://journals.sas . ac.uk/ deeslr/article/ view/5015/4932 (дата обращения: 11.01.2021).
-
3 Киберпреступность. Модуль 4 введение в цифровую криминалистику // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) : [сайт]. URL: https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime_ Module_4_Introduction_to_Digital_Forensics_RU.pdf (дата обращения: 11.01.2021).
-
4 Makulilo, А. B. The admissibility and authentication of digital evidence in Zanzibar under the new Evidence Act. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review , 2018,
Заключение
Следует признать, что современные процессы информатизации общества однозначно ведут к практически полному отказу в ближайшем будущем от делопроизводства на бумажных носителях как следствие реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»5. Очевидно, что в весьма недалеком будущем процессуальное делопроизводство столкнется с проблемой необходимости отказа от документов на бумажных носителях и перехода к фиксации доказательственной информации в форме электронных (цифровых) документов, включая аудио-, фо то-, видеоматериалы в цифровом формате .
Список литературы К вопросу о проблемах использования цифровых (электронных) данных в доказывании по уголовным делам
- Зуев, С. В. Цифровое видеопротоколирование в расследовании преступлений: проблемы и перспективы / С. В. Зуев // Технологии XXI века в юриспруденции : материалы Второй международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 22 мая 2020 г.) / под редакцией Д. В. Бахтеева. — Екатеринбург : УрГЮУ, 2020. — С. 461-464.
- Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран : монография / Д. В.Балашов [и др.] ; под ред. С. В. Зуева. — Москва : Юрлитинформ, 2020. — 216 с.
- Искевич, И. С. Актуальные проблемы определения юрисдикции при расследовании преступлений в информационном пространстве: международно-правовой аспект / И. С. Искевич, М. Н. Кочеткова, А. М. Попов // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2016.— № 4.— С. 54-58.
- Ищенко, Е. П. О криминалистике и не только : избранные труды / Е. П. Ищенко. — Москва : Проспект, 2016 — 528 с.
- Овчинникова, О. В. Дистанционные следственные действия: современное состояние и перспективы / О. В. Овчинникова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2019.—№ 1 (47). — С. 108-116.
- Основы теории электронных доказательств : коллективная монография / А. Н. Балашов [и др.] ; под ред. С. В. Зуева. — Москва : Юрлитинформ, 2019. — 400 с.
- Рудаков, Б. В. Проблемы использования материалов видео- и звукозаписи, полученных во внепроцессуальном порядке, для формирования доказательственной базы / Б. В. Рудаков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.—2014. — № 2 (3). -2014.— С. 48-52.
- Скобелин, С. Ю. Современные возможности «электронных» следов в раскрытии и расследовании преступлений / С. Ю. Скобелин // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью : материалы Всероссийской научно-практической конференции (Орел, 29 мая 2015 г.). — Орел : Орловский юрид. ин-т МВД РФ им. В. В. Лукьянова, 2015. — С. 301-305).
- Смушкин, А. Б. Виртуальные следы в криминалистике / А. Б. Смушкин // Законность. — 2012. — № 8.—С. 23-28.
- Чернышов, В. Н. Проблемы собирания и использования цифровых доказательств / В. Н. Чернышов, Е. С. Лоскутова // Социально- экономические явления и процессы.—2017.—Т. 12, № 5. — С. 199-203.
- Biasiotti, M. A., Mifsud Bonnici, J. P., Cannataci, J., Turchi, F. (eds.). Handling and Exchanging Electronic Evidence Across Europe. Springer, 2018, 420 p.