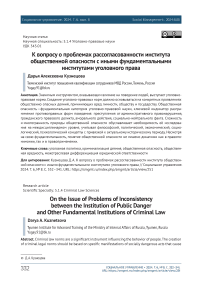К вопросу о проблемах рассогласованности института общественной опасности с иными фундаментальными институтами уголовного права
Автор: Кузнецова Д. А.
Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: Т. 6, вып. 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Значимым инструментом, оказывающим влияние на поведение людей, выступает уголовно-правовая норма. Создание уголовно-правовых норм должно основываться на конкретных проявлениях общественно опасных деяний, причиняющих вред личности, обществу и государству. Общественная опасность – фундаментальная категория уголовно-правовой науки, ключевой индикатор разграничения противоправных форм поведения: преступления от административного правонарушения, гражданского правового деликта, аморального действия, социально-нейтрального факта. Сложность и многогранность природы общественной опасности обуславливает необходимость её исследования на междисциплинарном уровне, учитывая философский, политический, экономический, социологический, психологический концепты с привязкой к актуальному историческому периоду. Несмотря на свою фундаментальность, понятие общественной опасности не лишено динамики как в правопонимании, так и в правоприменении.
Уголовная политика, криминализация деяния, общественная опасность, общественная вредность, межотраслевая дифференциация юридической ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/14131547
IDR: 14131547 | УДК: 343.01
Текст статьи К вопросу о проблемах рассогласованности института общественной опасности с иными фундаментальными институтами уголовного права
Уголовно-правовая политика выступает фундаментом уголовной политики, реализация которой невозможна без использования таких ключевых правовых инструментов, как криминализация и декриминализация. Систематические изменения, которые законодатель вносит в уголовный закон, зачастую подвергаются строгой критике от научного сообщества, указывая на отсутствие научной состоятельности и обоснованности предложенных инициатив.
Кроме того, четкое разграничение составов преступлений и административных правонарушений имеет важное значение для развития административно-деликтной и уголовной политики в определении их курса в целом. В правоприменительной деятельности зачастую возникают трудности в квалификации действий правонарушителей, так как допускается двусмысленная трактовка отдельных положений межотраслевых законов. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (далее — КоАП РФ) существует более ста составов, имеющих соответствующие правовые аналогии в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ). Одним из основных критериев разграничения преступления и правонарушения была и остается общественная опасность.
Целью ревизии общественной опасности деяния является установление возможности инициировать законотворческий процесс:
криминализировать новое, декриминализировать старое, унифицировать нормы, предложить дифференциацию ответственности [1, с. 62]. Для достижения указанной цели необходимо выработать генеральную стратегию научного поиска.
Вопросам изучения общественной опасности посвящены работы И. Я. Гонтаря [4], Ф. Б. Гребенкина [5], О. С. Гузеевой [6], Ю. С. Караваевой [8], Н. Ф. Кузнецовой [11], Н. А. Ло-пашенко [12], В. А. Маслова [13], Е. Ю. Пудо-вочкина [15] и других.
Описание исследования
Со второй половины XX века вопрос о сущности и содержании понятия общественной опасности занимал одну из центральных позиций в теории уголовного права и по настоящее время продолжает вызывать дискуссии исследователей. Данный факт вполне закономерен, поскольку в зависимости от того, какова будет эта трактовка, формируется представление о ключевых уголовно-правовых институтах, задается вектор постановки уголовной политике. Считаем целесообразным отра зить в статье некоторые существующие доктринальные подходы к понятию общественной опасности.
По утверждению А. П. Козлова, одним из первых дал определение общественной опасности А. А. Пионтковский, говоря о том, что общественная опасность преступного деяния порождается тем, что оно или непосредственно наносит вред социалистическим общественным отношениям, или заключает в себе возможность причинения соответствующего ущерба [9, с. 704]. И. Ю. Ляпунов определил общественную опасность как объективное антисоциальное состояние преступления, обусловленное всей совокупностью его отрицательных свойств и признаков и заключающее в себе реальную возможность причинения вреда (ущерба) общественным отношениям, поставленным под охрану закона [2, с. 127]. Н. Ф. Кузнецова рассматривает общественную опасность деяния как его вредоносность, выражающуюся в причинении либо создании угрозы причинения ущерба охраняемым УК интересам [11, с. 125]. Ю. А. Красиков поддерживает существующее в теории в уголовного права мнение о том, что общественная опасность является объективным свойством деяний, которые влекут негативные изменения в социальной действительности, нарушая упорядоченность системы общественных отношений [7, с. 56].
Учитывая изложенное, очевидно, что с одной стороны, в теории уголовного права существует устойчивая тенденция рассмотрения общественной опасности как объективного свойства деяния. С другой стороны, общественную опасность можно оценить, во-первых, как определенное объективное антисоциальное состояние, во-вторых, как вредоносность общественно опасного деяния, в-третьих, как способность деяния причинить существенный вред (ущерб). Однако из представленных определений не очевидно качественное отличие преступления от иных форм противоправного поведения. Интересным представляется определение, сформулированное Ф. Б. Гребенкиным: «общественная опасность преступления может определяться как свойство деяния, криминализированного законодателем, которое должно причинять не малозначительный вред общественным отношениям или создавать угрозу его причинения» [5, с. 23]. Данное определение не лишено чрезмерной простоты, но по смысловой нагрузке более насыщено.
По мнению же современников, общественная опасность — это основной критерий криминализации противоправного деяния, материальный признак преступления, который представляет собой возможность и угрозу причинения вреда конституционным правам человека и гражданина на определенном историческом этапе развития [14, с. 89].
Из предложенных определений следует, что ряд авторов при формулировке понятия общественной опасности тесно его связывают с понятием вреда. Усматривается устойчивая тенденция возможных вариантов соотношений этих понятий между собой. Возможность соотношений может быть представлена в следующих вариантах: во-первых, причиненный преступлением вред как тождественная категория общественной опасности; во-вторых, причиненный преступлением вред как один из структурных элементов общественной опасности; в-третьих, причинный преступлением вред не что иное, как показатель степени общественной опасности.
«Вредоносность» же характеризуется сложным и многогранным процессом развития, отягощения «вреда» до такой степени, когда угроза его причинения (реальное причинение) придают деструктивному деянию новое, особое негативное свойство, которое побуждает законодателя признать его общественно опасным и прибегнуть к криминализации данного деяния. С учетом изложенного, «общественная опасность», по сути дела, становится закономерным следствием развития (генезиса) вредоносности на экстремально высоком ее уровне [6, с. 97].
Говоря об институте криминализации как о структурном элементе уголовно-правовой политики, на законодателе лежит высокая ответственность за формулировку точной, обоснованной, адаптивной к современным реалиям гипотезы, диспозиции и санкции будущей уголовно-правовой нормы. Данными признаками норма будет обладать при анализе исходного материала через «призму» общественной опасности. Необходимо изначально определить сам факт наличия общественной опасности в деянии, которое не входит на момент анализа в поле уголовно-правового регулирования, а затем корректно оценить её качественные и количественные показатели
(характер и степень). Решение о декриминализации, напротив, может быть принято лишь в случае утраты в преступном деянии свойства общественной опасности. Общественная опасность выступает базовым критерием для реализации институтов криминализации и декриминализации. Как необоснованная криминализация, так и неоправданная декриминализация, являются деструктивными правовыми феноменами.
Уголовно-правовая отрасль содержит большое количество противоречий, причина которых прежде всего в том, что используемые ключевые понятия не получили нормативного определения и употребляются в доктрине и на уровне законодательном в отличных смыслах. В силу чего толкование характеризуется неоднозначностью, порождает противоречия и полярные точки зрения [3, с. 45]. К числу противоречий можно отнести и правовую дискуссию относительно осмысления важной уголовно-правовой категории «общественная опасность».
В уголовном законе и корреспондирующих документах многократно употребляется понятие общественной опасности, однако эта категория фактически отдана на откуп для трактовки правоприменителю для принятия процессуального решения как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии постановления приговора при назначении наказания (прекращения уголовного дела, освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Несмотря на объективную необходимость, законодатель не рискует выводить понятие общественной опасности за пределы доктринального понимания на уровень строго императива.
Не стоит забывать, что законодатель, как и правоприменитель, — это люди с присущими каждому индивидуальными установками, эмоциональной устойчивостью, социальным и правовым опытом. Абстрагироваться от этих врожденных и приобретенных качеств и быть объективным весьма сложно. Именно с этого момента и начинаются противоречия и разногласия при выявлении наличия либо отсутствии в деянии общественной опасности. Отсутствие единого подхода к пониманию данного фундаментального понятия правоприменителями приводит в недоумение общественность (как непрофессиональных, так и профессио нальных юристов), возникает вопрос, почему же при схожести действий правонарушителей и аналогичных обстоятельствах совершения противоправного деяния в итоге каждый из них может иметь свой индивидуальный уголовно — процессуальный сценарий?! Например, в отношении одного из них будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 (2) ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 (далее — УПК РФ), — ввиду отсутствия события (состава) преступления; в отношении другого уголовное дело будет прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ; в отношении третьего будет вынесен обвинительный приговор с назначением наказания (ч. 5 ст. 302 УПК РФ). Ответ прост: кто-то из субъектов уголовной юрисдикции усматривает в противоправном деянии общественную опасность (нет единого подхода и в оценке степени), кто-то не усматривает вовсе.
Факт противоречия вводит в формальнологический конфликт между собой базовые институты уголовно-правовой науки, такие, как преступление, вина, невменяемость, справедливость, категории преступлений, привлечение (освобождение) от уголовной ответственности и другими.
Представляется уместным проиллюстрировать данный тезис примером из судебной практики, в частности, рассмотреть вопрос о правомерности (с формальной стороны) и фундаментальной морали освобождения от уголовной ответственности лицо за совершение преступления против жизни через «призму» общественной опасности деяния.
Итак, из кассационного определения Верховного Суда Российской Федерации1 следует, что Сарсоматян ненадлежащим образом (без дополнительного ограждения, препятствующего доступу к основному, и предупреждающих надписей, не исключив контакты с опасными животными) содержал двух медведей в вольере на территории конноспортивного комплекса, куда проник малолетний. Открыв засовы двери внешнего забора, ребенок подошел к вольеру. Один из медведей, просунув лапу между металлическими решетками, затащил ребенка в вольер, где того растерзали дикие звери. Сарсоматяну было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.
Состоявшиеся судебные решения:
-
1) суд первой инстанции постановил взыскать судебный штраф в пользу государства в размере 250 000 рублей, при этом освободив обвиняемого от уголовной ответственности согласно ст. 76.2 УК РФ, и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ принято решение о прекращении уголовного дела. Решение по уголовному делу принято с соблюдением всех формальных требований закона: преступление категории небольшой тяжести, преступление совершено лицом впервые, ущерб «процессуальному потерпевшему» (матери ребенка) компенсирован2;
-
2) апелляционное обжалование: решение оставлено в силе без внесения изме-нений3;
-
3) первое кассационное обжалование: решение оставлено в силе без изменений4;
-
4) второе кассационное обжалование: все ранее принятые судебные решения отменены5.
В итоге, приняв во внимание аргументы, представленные заместителем Генерального прокурора РФ, судебная коллегия Верховного Суда РФ приняла решение о невозможности назначения судебного штрафа и освобождения от уголовной ответственности лица за преступление против жизни. Обоснование сводится к следующим аргументам: позитивное посткриминальное поведение Сарсоматяна «не снизило и не уменьшило общественную опасность содеянного»; опасность содеянного выразилась в наступлении гибели ребенка; позиция суда первой инстанции, как указали судьи, «девальвирует высшую ценность человеческой жизни». Коллегия подчеркнула ключевой аргумент: суд не учел характер преступления, направленного против права на жизнь6. Из чего делает вывод об объективной невозможности снизить общественную опасность содеянного посредством материальной и иной помощи. Значит, дело не в общественной опасности, а в особой ценности объекта [16, с. 38].
Существует достаточно широкая практика, когда суды ссылаются на снижение степени общественной опасности подобных преступлений в силу позитивного посткриминального поведения субъекта (раскаяние, заглаживание вреда, примирения с процессуальным потерпевшим и т. д.), отсутствие ранее совершенных преступлений, положительную характеристику личности преступника. В ряде случаев, когда инициатива на обжалование решений суда не поступает, виновные лица остаются освобожденными от уголовного наказания1. Данные решения свидетельствуют о полярности правовых убеждений и трактовок, в том числе общественной опасности законодателем и правоприменителем.
Исходя из некоторой судебной практики, следует вывод, что зачастую при принятии процессуального решения первично оценить общественную опасность лица , совершившего преступление, а не общественную опасность деяния и ценность объекта преступного посягательства. На наш взгляд данный подход категорически нежизнеспособен с точки зрения элементарной этики и морали.
Существующая в теории и практике уголовного права связка «степень общественной опасности — категория тяжести — санкция» выводит на логику, что если за квалифицированное преступление против жизни предусмотрена санкция в рамках категории преступления небольшой тяжести, то содеянное оценивается в качестве «малоопасного преступления». Из этого следует, что причинение смерти по неосторожности отнесено к аналогичной категории, что и повреждение имущества по неосторожности. Нуждается ли данный факт в корректировке и дополнении Общей части действующего УК РФ? Считаем, что в целях реализации принципа правовой определенности национальной уголовной политики нуждается безусловно.
Общественная опасность является, по сути, мерилом и основной константой при формировании главных институтов уголовного права, на которую неоднократно ссылается законодатель, и в зависимости от которой наступает уголовная ответственность либо человека освобождают от уголовной ответственности и наказания [14, с. 86].
Проследив качественные изменения и трансформации уголовно-правовых запретов неизбежно обратит на себя внимание факт отсутствия единого подхода законодателя к содержанию нормотворческих процессов.
В существующих политических реалиях законодатель иногда бессистемно криминализирует деяния, генерализируя частный случай, общественная опасность которого, в контексте уголовного закона, объективно отсутствует. Кроме того, применяется все более широкое распространение внесения уголовно-правовых запретов на стадии профилактики противоправных деяний.
В настоящее время в уголовной политике наблюдаются трансформационные процессы, связанные с изменением функции уголовного закона от охранительной к предупредительной, реализацией относительно нового принципа экономизации отрасли, смещением акцентов в иерархии ценностей от персональных интересов личности к национальным интересам, защите целостности государства [17, с. 106].
Уходу от оценки реальных причин и условий преступности и подмене большой, затратной и эффективной профилактической работы принятием скоропалительных и заведомо неработоспособных законов сопутствует маскировка подлинных причин и условий мнимыми, но более удобными. Стремление профилактировать мерами уголовно-правовой репрессии приводит к тому, что уголовная ответственность устанавливается за действия, которые сами по себе не обладают свойствами общественной опасности той степени, которая характерна для уголовного закона [10, с. 252].
Так, не зарегистрировано ни одного преступления по ст. 144.1 УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста» (с в 2018 г.), ст. 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования» (с 2003 г.), ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах» (с 2009 г.), ст. 185.2 УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги» (с 2009 г.), ст. 215.4 УК РФ «Незаконное проникновение на охраняемый объект» (с 2015 г.). Статья 141.1 УК РФ «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» была применена один раз, ст. 185.4 «Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг» — два раза1.
Принятие законов, устанавливающих или усиливающих уголовную ответственность по единичным фактам резонансных преступлений или в силу складывающейся политической конъюнктуры, объясняют, как правило, профилактическими целями. Между тем благое стремление профилакти-ровать мерами уголовно-правовой репрессии часто приводит к тому, что уголовная ответственность устанавливается за действия, которые сами по себе не являются общественно опасными, хотя, в принципе, могут перерасти в таковые, а могут, с такой же степенью вероятности, и не перерасти, от чего их «преступная сущность» не изменится [10, с. 252].
Проведя анализ некоторых подходов к пониманию общественной опасности как межкатегориального института уголовного права, её роли при выборе стратегии национальной уголовной политики, значения для формирования единого подхода при реализации правоприменения можно предложить собственное определение общественной опасности.
Итак, на наш взгляд, общественная опасность — это деструктивное свойство преступного деяния той степени, последствие которого способно вызвать социальную напряженность, дестабилизировать деятельность политической системы, создать угрозу для нормального развития и функционирования базовых сегментов благополучного общества.
Смена акцентов в иерархии ценностей от персональных интересов личности к национальным интересам, защите целостности государства представляется вполне оправданной. Всеобщая восторженность всем западным, так называемая вестернизация, привела к «разочарованию» и переоценке западных ценностей, основанных на понимании общества как совокупности индивидов, имеющих каждый свои законные интересы. Необходим переход от западного индивидуализма к восточному солидаризму, о чем говорят лидеры государства [17, с. 106].
Заключение
Категория общественной опасности вызывала и вызывает правовые дискуссии среди законодателей, правоприменителей, научного сообщества. Слишком много за собой несет значение вектора трактовки этого понятия в уголовно-правовом пространстве. На сегодняшний день процесс криминализации и декриминализации реализуется на бытовом и интуитивном понимании категории общественной опасности либо на слабом правовом. Представляется, что концентрация философско-исторического концепта в исследуемом понятии больше, чем юридического. Кроме того, подходы при реализации институтов криминализации и декриминализации не лишены субъективизма равно как и их отправная точка — общественная опасность.
Применение государством правовых механизмов возможно исключительно исходя из принципа целесообразности и эффективности, не подвергая уязвимости уголовно-правовой суверенитет национального законодательства в погоне за мировыми «правовыми трендами».
Суть общественной опасности — материальный признак преступления. Без этого признака уголовно-правовой норме не должно быть места в Особенной части УК РФ, а уже имеющаяся норма, предусматривающая ответственность за общественно неопасное деяние, должна подлежать исключению [1].