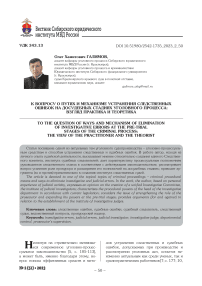К вопросу о путях и механизме устранения следственных ошибок на досудебных стадиях уголовного процесса: взгляд практика и теоретика
Автор: Галимов О.Х.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (51), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из актуальных тем уголовного судопроизводства - уголовно-процессуальным средствам и способам устранения следственных и судебных ошибок. В работе автор, исходя из личного опыта судейской деятельности, высказывает мнение относительно создания единого Следственного комитета, института судебных следователей; дает характеристику процессуальным полномочиям руководителя следственного отдела в соответствии с действующим законодательством; рассматривает вопрос усиления роли прокурора и расширения его полномочий на досудебных стадиях; приводит аргументы (за и против) применительно к созданию института следственных судей.
Следственные ошибки, судебные ошибки, судебный следователь, следственный судья, ведомственный контроль, прокурорский надзор
Короткий адрес: https://sciup.org/140301169
IDR: 140301169 | УДК: 343.13 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_2_50
Текст научной статьи К вопросу о путях и механизме устранения следственных ошибок на досудебных стадиях уголовного процесса: взгляд практика и теоретика
Несмотря на стремительно меняющееся современное уголовно-процессуальное законодательство [5, с. 105-113], а может быть, именно благодаря этому, вопрос поиска эффективных средств и мето- дов устранения следственных и судебных ошибок, допускаемых при производстве и рассмотрении уголовных дел, остается неизменно актуальным как среди ученых, так и среди практических работников [7; с. 177; 10, с. 275-284; 11, с. 122-128; 12, с. 35-41]. При этом проводимые исследования носят концептуальный характер [7-9; 13], в них формулируются достаточно серьезные (с точки зрения теории и практики) и злободневные вопросы, требующие глубокого анализа.
С учетом имеющегося собственного научно-педагогического и правоприменительного опыта считаем возможным в качестве обмена мнениями ответить на некоторые из таких проблемных вопросов, сформулированных исследователями (в частности, одним из признанных специалистов в данной области А.Д. Назаровым).
Применительно к созданию единого Следственного комитета, который будет способствовать снижению порога ошибок в деятельности следователя, отметим, что являемся сторонником таких преобразований. Это, по нашему мнению, во многом устранит межведомственные «распри», повысит независимость и самостоятельность следственного аппарата (с учетом подчинения напрямую Президенту РФ), позволит выработать единую следственную практику. При этом полагаем возможным исключить дознание как самостоятельную форму расследования (как это было предусмотрено еще в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 года), оставив за органами дознания исключительно выполнение поручений следователя, неотложные следственные действия и участие в следственных действиях, что, в свою очередь, несомненно, окажет влияние на снижение порога следственных ошибок.
Что касается института следственных судей, то мы придерживаемся осторожной позиции по этому поводу [подр.: 4, с. 83-90]. Вообще качество досудебного производства должно улучшаться не путем реформирования судебной власти и ее процедур (в качестве негативного примера именного такого подхода законодателя можно привести обоснование им исключения особого порядка судебного разбирательства по тяжким преступлениям), а надлежащим ведомственным контролем и прокурорским надзором.
Приведем аргументы «за» и «против» создания в России института следственных судей.
Аргументы «за»:
– специализация судей, что предполагает больший профессионализм и компетентность в рассмотрении материалов досудебного производства;
– освобождение судей, рассматривающих уголовные дела, от судебного контроля, что дает им возможность сконцентрироваться на своей основной деятельности, избавляя от еженедельных дежурств. При этом в тех судах, где есть разделение на судей по уголовным делам и судей по гражданским делам, последние в связи с нехваткой кадров также осуществляют судебный контроль в рамках уголовного судопроизводства, от которого они уже «далеки» в силу своей компетенции, что нередко приводит к низкому «качеству» выносимых ими решений;
– устранение ситуации, при которой судья, осуществляющий судебный контроль в рамках уголовного дела, рассматривает данное дело по существу, что позволяет усомниться в его беспристрастности (например, признав действия (бездействие) следователя или производство обыска в жилище законным, вряд ли можно надеяться, что он изменит свою позицию в судебном заседании). К сожалению, такая практика сегодня, в том числе и Верховным Судом РФ, не считается противоречащей закону.
Аргументы «против»:
– назначение следственных судей из состава районного суда на определенный срок влечет ситуацию, при которой судья теряет навыки работы по уголовным делам, становится, так сказать, «дежурным следователем» с узким набором функций. Не меняется ситуация, на наш взгляд, и тогда, когда следственного судью назначают на постоянный срок, он как бы и остается судьей, но с ограниченных набором полномочий;
– кадровый «голод», чрезмерная загруженность судов районного звена по рассмотрению уголовных дел и материалов, связанных с исполнением приговора, что не позволяет в современных условиях реализовать полноценно эту идею;
– введение такой специализации неизбежно приводит к необходимости проработки другого, не менее актуального вопроса: о целесообразности введения иных специалистов судебного контроля – пенитенциарных судей [6, с. 10; 7, с. 177; 14, с. 14-21].
Теперь перейдем к вопросу относительно полномочий руководителя следственного органа. Полагаем, что у него достаточно полномочий для ведомственного контроля, они напрямую приближены к деятельности следователя (например, указания, отмена решений, продление срока следствия и т.д.), их не нужно ни расширять, ни ограничивать, ни тем более передавать суду. При этом считаем, что в рамках реформирования процедуры обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц досудебного производства следует предусмотреть в законе (как это было предложено в одном из проектов изменений УПК РФ) правило, согласно которому сначала нарушения следователя обжалуются руководителю следственного органа или прокурору, руководителя следственного органа – прокурору, прокурора – вышестоящему прокурору, и только затем – в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.
Применительно к вопросу о том, следует ли следователю (особенно на низовом уровне) проявлять процессуальную самостоятельность, необходимо отметить следующее. Процессуальная самостоятельность следователя – важная составляющая его независимости и объективности, что существенно в настоящее время отличает работу следователя от деятельности дознавателя (это еще один аргумент в пользу ликвидации дознания как самостоятельной формы расследования). Поэтому процессуальную самостоятельность следователя исключать нельзя ни на каком уровне, но следует вернуть ее важную составляющую, имевшую место ранее в УПК РСФСР, где наряду с перечнем указаний прокурора и начальника следственного органа (в УПК РФ этот перечень обоснованно и значительно расширен), с которыми следователь может не согласиться и при обжаловании приостановить их исполнение, было закреплено правило, согласно которому в случае отказа в удовлетворении возражений следователя уголовное дело передается для производства расследования другому следователю (ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 127-1 УПК РСФСР). Данное положение следовало бы закрепить в ч. 3 ст. 39 УПК РФ.
Сложным представляется вопрос о том, какие изменения в законодательстве и правоприменении будут способствовать становлению высокопрофессионального следствия и недопущению следственных ошибок. По нашему мнению, в УПК РФ следователю предоставлены все возможности и алгоритмы работы по уголовному делу для решения поставленной задачи (кстати, задачи уголовного судопроизводства должны быть четко сформулированы в УПК РФ, как это было в его «советской» редакции и как есть, например, в УПК Республики Казахстан, в частности, задачи следователя: быстро и полно раскрыть преступление, объективно и полно его расследовать, изобличить виновного). Изменения должны касаться не его полномочий, а порядка производства по уголовному делу, совершенствования процессуальных процедур, в том числе касающихся следственных действий, стадии возбуждения уголовного дела, сроков и т.д. Остальное, в частности вопросы надлежащего процессуального контроля, повышения профессионализма следователя и недопущения ошибок, должно регулироваться ведомственными нормативными актами.
Приведем один из характерных примеров «намеренных» следственных ошибок вопреки установленному законом порядку. В ст. 195 и 206 УПК РФ закреплена обязанность следователя знакомить обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и его заключением. Причем в первом случае это необходимо производить до проведения экспертизы, иначе обвиняемый лишается прав, предусмотренных ст. 198 УПК РФ. Однако следователь это делает либо одновременно с ознакомлением с заключением эксперта либо при выполнении ст. 217 УПК РФ, что, по сути, делает заключение эксперта недопустимым доказательством. Суды, отказывая в удовлетворении ходатайства стороны защиты об этом, ссылаются на то, что при указанном ознакомлении обвиняемого с этими документами он не заявил отвод эксперту, не просил провести экспертизу в другом учреждении, дополнительных вопросов не ставил и т.п. Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ признал такой отказ обвиняемого от своих прав вынужденным1, приведенная практика этой непрофессиональной работы следователей продолжается.
Теперь относительно полномочий прокурора в досудебном производстве. Разделяя озабоченность ученых и практиков относительно эффективности деятельности прокурора в судопроизводстве по уголовным делам [3, с. 33-39], не можем не согласиться с тезисом о том, что громоздкая и неповоротливая система реализации надзора за законностью ведения следствия со стороны прокуратуры оставляет мало надежды на быстрое исправление следственных ошибок, нарушений федерального законодательства [1, с. 66]. В связи с этим считаем обоснованными предложения о необходимости возвращения прокурору полномочий, существовавших до их реформирования Федеральным законом от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ, в частности, по возбуждению уголовного дела [2, с. 92]. В противном случае создается ситуация, при которой прокурор, отменяя постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, его приостановлении или прекращении, оставляет вопрос открытым: что дальше, если руководитель следственного органа не согласен с таким решением? Это создает процессуальную неопределенность и волокиту. В УПК РСФСР существовало правило, согласно которому при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор возбуждает его. Сегодня же возвращение материалов для дополнительной проверки стало правилом, сообщения о преступлении рассматриваются годами, порождая жалобы в порядке ст.125 УПК РФ (а таковых из всего числа жалоб большинство).
При этом, на наш взгляд, следует исключить из полномочий прокурора вручение им копии обвинительного заключения обвиняемому как фикцию, на практике практически не реализуемую (вручает следователь), порождающую формально нарушение закона (ни на что не влияющее) и фальсификацию материалов (подложная расписка о вручении копии обвинительного заключения, расписка без вручения, вручение копии без отметки об утверждении прокурором оригинала), что уже влечет совсем другие негативные последствия, и прежде всего для рассмотрения уголовного дела.
Кроме того, ходатайство перед судом об избрании меры пресечения (или об ее продлении) следователю надлежит согласовывать не с руководителем следственного органа, а с прокурором, который и должен его поддерживать в суде, а в случае несогласования возвращать следователю. Это избавит суд от «надуманных» (явно не обоснованных и обреченных на отказ) ходатайств о заключении под стражу, когда следователи выходят с ними, чтобы снять с себя определенную ответственность перед руководством за применение ненадлежащих мер принуждения к подозреваемым (обвиняемым). Причем прокуроры в судебном заседании чаще всего такие ходатайства не поддерживают, что влечет отказ в их удовлетворении и излишние трудовые затраты. При этом при реализации вышеприведенного предложения исключается противоречивое понимание того, может ли следователь, как участник процесса, или руководитель следственного органа обжаловать решение суда, вынесенное по итогам рассмотрения указанного ходатайства.
Также отметим, что практика, на наш взгляд, идет по правильному пути и, когда прокурор не поддерживает ходатайство следователя, суд отказывает в его удовлетворении. Правда, у нас всегда вызывает сомнение инициативное избрание судом мер пресечения в порядке ч. 7-1 ст. 108 УПК РФ в отсутствие ходатайства об этом стороны обвинения. Вот поэтому прокурор и должен заранее согласовывать ходатайство следователя и поддерживать его в судебном заседании, тогда при отказе суда данная норма закона вполне применима.
Обратим внимание еще на одну деталь. В законе есть норма (как пример возможности прокурора самостоятельно участвовать в судебном заседании, связанном с решением вопроса о мере пресечении), позволяющая прокурору обратиться в суд с ходатайством о продлении срока мер пресечения (ч. 2-1 ст. 221 УПК РФ). Более того, мы абсолютно разделяем позицию профессора В.А. Азарова, который в одном из своих выступлений отметил, что международно-правовые документы обращают внимание именно на судебный контроль за арестом обвиняемого, что можно обеспечить разными средствами, в том числе как было в свое время предложено в УПК РСФСР: прокурор санкционирует заключение под стражу, а суд проверяет по жалобам законность и обоснованность такого решения (ст. 96, 220-1, 220-2 УПК РСФСР). Мы понимаем, что для реализации этой идеи потребуется внесение соответствующих изменений в ст. 22 Конституции РФ, но это существенно снизит нагрузку на суды, будет дисциплинировать следователей, которые сделали суд своего рода «заложником» принятых решений (не говоря уже о систематическом нарушении следователями сроков предоставления суду материалов), позволит суду осуществлять судебный контроль вне связи с последующим рассмотрением этого же уголовного дела.
Вместе с тем с учетом вышесказанного и поддержки расширения надзорных полномочий прокурора возражаем против наделения прокурора следственными полномочиями (допрос участников предварительного расследования, предъявление обвинения и др.), за исключением права возбуждать уголовное дело.
Отмечая необходимость реформирования производства в порядке ст. 125 УПК РФ, связанного с рассмотрением судом жалоб только после их разрешения прокурором или руководителем следственного органа, порядка возбуждения ходатайства об избрании (продлении) меры пресечения, мы тем не менее не поддерживаем идею расширения судебного контроля в досудебном производстве, поскольку главное предназна- чение судебной власти в уголовном процессе – разрешение уголовных дел по существу. Устранению следственных ошибок должен способствовать надлежащий ведомственный контроль и прокурорский надзор. Судебная деятельность в целом не должна быть связана с контролем или надзором за следствием, чтобы не ассоциироваться со стороной обвинения. Роль суда на досудебном производстве – исключительно обеспечение конституционных прав граждан (на жилище, личную неприкосновенность и т.д.) и рассмотрение жалоб участвующих в нем лиц на нарушение их прав. Для этого, за исключением вышесказанных замечаний, в УПК РФ созданы, как нам кажется, все условия.
Избыточными, по нашему мнению, являются полномочия суда по отмене постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года после его вынесения, регламентированные п. 13 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, а рассмотрение ходатайств в порядке ст. 165 УПК РФ следовало бы предусмотреть без проведения судебного заседания.
Повышению роли суда в устранении следственных ошибок могла бы способствовать его большая инициативность, не только в возвращении уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ), оглашении показаний (ч. 2 ст. 281 УПК РФ), допросе эксперта и производстве экспертизы (ст. 282-283 УПК РФ), но и в производстве иных следственных действий, поскольку в главе 37 УПК РФ нет четкого указания на этот счет. Следует также предусмотреть возможность возвращения уголовного дела прокурору при обнаружении явных следственных ошибок, не требующих производства дополнительного расследования. Например, для установления личности подсудимого, когда возникают сомнения в этом, а такие случаи встречаются, когда обвиняемый выдает себя за другого человека, зная его полные данные, копия формы 1П или паспорта не имеют четкого изображения лица, а его отождествление по отпечаткам пальцев рук не проводилось или не дало результатов. В таком случае суд ориентируется только на имеющиеся материалы уголовного дела и средства установление личности подсудимого у него ограничены.
Следует также, по нашему мнению, на законодательном уровне исключить рассмотрение уголовного дела судьей, ранее принимавшим участие в досудебном производстве по нему в рамках судебного контроля.
Подводя итог, отметим, что все вышеизложенное может в определенной мере способствовать выработке эффективных средств и методов устранения следственных и судебных ошибок, допускаемых при производстве и рассмотрении уголовных дел.