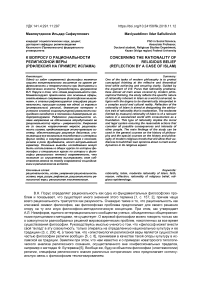К вопросу о рациональности религиозной веры (рефлексия на примере ислама)
Автор: Мавляутдинов Ильдар Сафиуллович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Одной из задач современной философии является защита концептуального мышления на уровне рефлексивности и теоретичности при достижении и обеспечении ясности. Руководствуясь аргументом В.Н. Поруса о том, что «тема рациональности проблематизирует практически все основные сферы, охватываемые современным философским мышлением», в статье рефлексируется специфика рациональности, присущая исламу как одной из мировых (универсальных) религий, догматика которого в условиях сложной социокультурной реальности вынужденно находится в положении диаметрально интерпретируемой. Рефлексия рациональности ислама направлена на обозначение атрибутивной ее (рациональности) черты - умеренности. Умеренная же (в смысле «ограниченная мерой») рациональность ислама, предполагающая этико-правовую систему, обеспечивающую разумные действия, учитывающие все возможные последствия и интересы других людей, в секуляризованном мире с консюмеризмом в роли фундамента, носит актуальнейший характер. Основные выводы исследования могут быть использованы в общих курсах по истории философии и специальных курсах по истории и философии религиозных течений современности, что позволит их слушателям выстраивать свое собственное мнение по поводу современной социодинамики в религиозном ее аспекте.
Рациональность, ислам, умеренная рациональность ислама, вера, разум, рефлексия, рациональность религиозной веры, религиозная эпистемология
Короткий адрес: https://sciup.org/149133715
IDR: 149133715 | УДК: 141.4:291.11:297 | DOI: 10.24158/fik.2018.11.12
Текст научной статьи К вопросу о рациональности религиозной веры (рефлексия на примере ислама)
В.Н. Порус определяет рациональность как одну из фундаментальных философских проблем и показывает, что существует много значений этого термина [1, с. 157; 2], причем чаще всего рациональность трактуется как разумность. Очевидно также и то, что рациональность как ключевой символ философии, как философская проблема предполагает для своего решения опору на ту или иную философско-методологическую концепцию. При этом, как утверждает А.Л. Никифоров, единого интернационального сообщества ученых, объединенных общепризнанными принципами и методами, не существует. О мировой философии можно говорить только как о совокупности разнообразных решений мировоззренческих проблем, накопленных за все время существования философии. Руководствуясь мыслью ученого о том, что «философ может внести свой “вклад” в эту совокупность, только опираясь на определенную национальную культуру и ее традиции» [3, с. 200; 4], а также тем, что «эпистемология религиозной веры является сущностной частью философии религии вообще» [5, с. 8], принимаем в качестве такой опоры культуру в исламской ее традиции. Заметим при этом, что нам известно и о примерах новаторского типологического анализа религиозного сознания, осуществленного вне конфессиональных пределов, например о взглядах Ф. Бутервека [6]. Вообще же, будучи объектом философии (эпистемологии) религии, специфика религиозного знания различных исторических эпох предполагает континуальную связь с философским теологизированием.
Воспринимаясь прежде всего как метод познания действительности, который основывается на разуме, рациональность обладает своими внутренними законами и особенностями, отождествляющими ее в виде атрибутивного свойства той или иной цивилизации. Парадоксальность рационального восприятия состоит в том, что если ограничить ее системой априорных критериев, то рациональность как возможность критического осмысления и ревизии бытия, в том числе и самой рациональности, теряется. Если субъект решается на пересмотр сложившейся системы в попытках изменить ее, то он поступает иррационально. Однако ведь именно эта иррациональность как раз и выражает рациональность, присущую разуму.
Основной сутью противопоставления рациональности и веры является то, что веру объявляют формой иррационального, к структуре рационального мышления с его критериями опытности, проверяемости и воспроизводимости отношения не имеющей. Между тем именно вера является тем беспокоящим движителем человеческого сознания, олицетворяющим рациональную необходимость поиска смысла его существования. В этом смысле вера должна восприниматься как часть пусть и весьма специфической, но рациональности. Однако даже при этом, как пишет польский исследователь Станислав Вшолек, рациональность религии, ее критерии разумности веры понимаются крайне схематично [7].
Согласно этой схеме, разум предлагает аргументы в пользу разумности веры («порог веры»), вера выступает как свободный ответ на эти аргументы, а ум при этом объясняет принятые истины веры, рассеивает сомнения. Таким образом, вера должна обязательно предшествовать некоторым рациональным аргументам (оправдание божественного характера Священного Писания или свидетельства существования Бога), на которых человек тогда совершает акт веры, т. е. принимает то, что уже вне рационального. Другими словами, «истины веры» признаны рациональными, поскольку могут быть основаны на «истинах разума».
Критикуя такое упрощенное представление о рациональности веры, С. Вшолек оправдывает следующую идею: вера требует использования разума. Разум непосредственно участвует в самом акте веры, а не только в его предварительном или последующем понимании. Рассуждая о рациональности веры, ученый говорит о вере как когнитивном акте, рациональность которого заключается в творческом и свободном применении разума. По сути, вера становится причиной рациональности.
Есть только два аспекта, которые формируют концепцию истины в разных религиозных учениях: ее трансцендентная, рационально непознаваемая природа и, что не менее важно, природа истины как абсолютного бытия, достигаемая только усилием веры. Служить истине для верующего любого исповедания означает, по сути, одно и то же: подтвердить свою веру своей собственной жизнью и подчинить свою жизнь вере. Точно так же, в конце концов, поступает разумный ученый, подчиняя истину своей гипотезы («веры») какому-то эмпирическому, экспериментальному результату («жизни»). Более того, ничто иное, кроме веры, не может объяснить идею «долга», которая заставляет человека действовать в каждом случае так, как будто наши действия продиктованы общепринятой моральной нормой. Эту рационалистическую максиму ее автор, Иммануил Кант, называл «категорическим моральным императивом».
Таким образом, идея рациональности неразрывно связана с отношением веры и разума. Разум рационален ровно настолько, насколько он этичен, и вера всегда была гарантом нравственности.
По мнению Е.Ю. Леонтьевой, «рациональность предстает перед нами как разборчивость объективно общего, особый размер сознательной деятельности, движение мышления по “логике бытия”, глубоко онтологически обусловленное» [8, с. 7]. В этом мнении подчеркивается рефлексивный характер рациональности, который проявляется как в его эпистемологической характеристике (разборчивость, сознательная деятельность, движение мышления), так и в обусловленности глубокими онтологическими корнями. Однако, оставаясь только в пределах указанных характеристик, рациональность, по-видимому, фиксируется сама по себе, не обнаруживая своего собственного существа.
Простое принятие новых предположений, новых компонентов или элементов, которые определяют рациональность, не приводит к устранению проблемы, а лишь сокращает ее остроту на короткое время. Реальный шаг к решению проблемы рациональности представлен пересмотром ее онтологических оснований, в которых будет зафиксировано не только существо, непосредственно связанное с субъектом, но специфика той реальной позиции, в которой субъект находится сам в своем отношении к миру, в который он включен. Следовательно, рациональная мысль будет обусловлена ситуацией, в которой находится человек, будет фиксировать и умопо-стигать не бытие, а человека в его отношении к этому бытию.
Исламская (не заимствованная из античных представлений) теория человеческого совершенствования предполагает взаимосогласованное и гармоничное развитие как физического, так и духовного, в котором, в принципе, сосуществует и не может быть приоритетом любая из сторон. Исследователь, который ищет приоритет идеи над материальным воплощением, не находит его в материале исламской культуры и ошибочно делает вывод о том, что телесное тело выше духовного [9]. Это, по словам А.В. Смирнова, является неизбежной основой стереотипов, которые широко распространены в мнениях западных исследователей культуры, несмотря на обилие совершенно иной информации об исламе и исламской культуре. Причину этого ученый видит в том, что две культуры характеризуются взаимной логико-смысловой, а не содержательной инаково-стью, и суть здесь не в самой информации, а в том, как она обрабатывается.
Другим подобным стереотипом является тезис об отсутствии автономной, независимой, свободной личности в арабо-мусульманской культуре. Хотя само развитие арабо-мусульманской философской мысли свидетельствует о безусловном доминировании принципов авторства и обсуждения, личный приоритет над коллективом однозначно закреплен в классическом исламском праве и этике и неоднократно обсуждался и подчеркивался в работах самых известных исламских авторов.
Классическое исламское общество и в самом деле не развило идей автономной и самодостаточной личности. В пределах арабо-мусульманской культуры личность соотносится с другой личностью в соответствии с логикой соотношения противоположностей, характерных для этой культуры, действуя как онтологическое условие друг для друга. «Другой» здесь не абстрактный, а всегда конкретный человек, занимающий особое социальное положение, с которым разные «я» вступают в отношения взаимной необходимости.
Когнитивные способности человека ограниченны, поэтому чем более сложной и неопределенной является ситуация, тем более вероятно, что ее участники прибегнут к стандартным действиям, принимаемым без доказательств, и сосредоточатся на конкретной, наиболее проблемной области. С этим соглашаются многие исследователи, исходя при этом из совершенно разных точек зрения.
Рациональность, являющаяся важнейшим составным принципом объективного знания, ставящая задачей изучение свойств и закономерностей мира материального, неизбежно дополняется и модифицируется миром духовным, духовной реальностью существования человека. Эта позиция примиряет рациональное и иррациональное, объявляя познание воплощением их единства. Поэтому континуум веры и рациональности с учетом и пониманием их природы не только включает в себя диалектический принцип единства и борьбы, но и предоставляет локализацию взаимообусловленного обогащения и дополнения [10]. Рациональность, реализованная в исламе, представляется наиболее характерным примером именно того типа рациональности, который предоставляет критерии, фиксирующие неуловимые границы этой локализации, особенно ценные тогда, когда «…в мире происходит глобальное религиозное возрождение» [11, p. 17].
И в начале XXI в. бесспорным остается тот факт, что религия является одним из мощнейших факторов социального изменения и человеческого совершенствования, что в исламском ее варианте обусловливается локализацией специфической рациональности, обусловленной взаи-мообогащением и дополнением веры. Вера как явление может пониматься как часть присущей человеку рациональности, причем весьма специфической. Вера дает своему приверженцу то, что ищет каждый человек: наполнение сиюминутного актуального бытия вечным трансцендентным смыслом, отвечая необходимости отыскать причину и основание своего существования. Уже хотя бы поэтому вера может быть признана рациональной, а потому видится, что подобного рода исследования повлекут за собой ускорение процесса утверждения философии (эпистемологии) религии в качестве автономной дисциплины.
Ссылки:
Список литературы К вопросу о рациональности религиозной веры (рефлексия на примере ислама)
- Коммуникативная рациональность: эпистемологический подход / отв. ред. И.Т. Касавин, В.П. Филатов. М., 2009. 215 с.
- Порус В.Н. Рациональность [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Института философии Российской академии наук. Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH6743a4d47bb13ceacfee67 (дата обращения: 25.09.2018).
- Никифоров А.Л. Существует ли мировая философия? // Вопросы философии. 2017. № 11. С. 200-206.
- Никифоров А.Л. Рациональность и свобода // Рациональность как предмет философского исследования: сб. ст. / отв. ред. Б.И. Пружинин, В.С. Швырев. М., 1995. С. 171-186.
- Карпов К.В. Эпистемология религиозной веры как дисциплинообразующая часть философии религии // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 53, № 3. С. 8-18. DOI: 10.5840/eps201753343
- Золотухин В.В. Чистый теизм и критика всеединства: философия религии Фридриха Бутервека // Вопросы философии. 2017. № 11. С. 190-199.
- Вшолек С. Рациональность веры / пер. с пол. Т. Оболевич. М., 2005. 152 с.
- Леонтьева Е.Ю. Рациональность и ее типы: генезис и эволюция: дис. … д-ра филос. наук. Волгоград, 2003. 300 с.
- Шульгин Н.Н. Культура и рациональность. Интервью с А.В. Смирновым // Вопросы философии. 2007. № 1. С. 16-25.
- Франк С.Л. Реальность и человек: метафизика человеческого бытия. Париж, 1956. С. 117-137.
- Esposito J.L., Watson M. Introduction // Religion and Global Order / eds.: J.L. Esposito, M. Watson. Cardiff, 2000. 239 p.