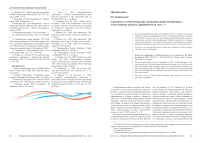К вопросу о репатриации польских военнопленных - участников «белого движения» в 1921 г
Автор: Оплаканская Рената Валерьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 4 (30), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о репатриации в 1921 г. пленных 5-й польской стрелковой дивизии, принимавшей участие в Гражданской войне на стороне А.В. Колчака. Автор исследует, в каких сферах производства были заняты военнопленные во время своего пребывания в Сибири, каково было отношение к ним советской власти, как проходила подготовка к репатриации и по каким причинам некоторые военнопленные предпочли остаться в Советской России.
Короткий адрес: https://sciup.org/170175552
IDR: 170175552 | УДК: 94(47).084.3
Текст научной статьи К вопросу о репатриации польских военнопленных - участников «белого движения» в 1921 г
В Гражданской войне на стороне А.В. Колчака воевали в том числе и иностранные легионеры. Одним из крупных военных формирований была 5-я стрелковая польская дивизия, которая была сформирована в Сибири в период с января по май 1919 г. и подчинялась командованию войска государств Антанты на востоке России и Западной Сибири. Во время отступления иностранного контингента на восток 5-я дивизия попала в окружение «красных» под Красноярском и 10 января 1920 г. капитулировала. В плену у большевиков оказалось около 11 000 человек [7, с. 91].
История 5-й польской стрелковой дивизии стала предметом научного изучения в работах таких польских и российских ученых, как И.В. Нам [4],
Л.К. Островский [7], С.В. Леончик [2], Я. Нейи [11], В. Резмер [9], Я. Вишневский [13]. Исследованию подверглись такие вопросы, как комплектование дивизии, отношение военнослужащих к участию в войне на стороне «белого движения» и обстоятельства плена под Красноярском. Судьба военнопленных изучена менее основательно, что объясняется недостаточной Источниковой базой. В сибирских архивах дела о военнопленных поляках рассредоточены по различным фондам, а это затрудняет их введение в научный оборот. Работы польских историков опираются на мемуары участников событий, а также нормативно-правовые акты Польской военной миссии в Сибири (рапорты командиров, анкеты и регистрационные кар- точки членов военного формирования) [12]. Разрозненность источников является препятствием для комплексного и всестороннего исследования положения военнослужащих польской дивизии в плену. По этой причине остается неизученным ряд вопросов, в числе которых - подготовка и проведение реэвакуации на родину польских пленных в 1921 г, а также судьба тех, кто остался на жительство в Сибири. Был ли такой шаг следствием добровольно принятого решения или результатом морально-психологического давления представителей советской власти?
Нас интересовали организация и проведение репатриации военнопленных 5-й стрелковой польской дивизии в Минусинском уезде Енисейской губернии. Исследование опиралось на материалы из фондов Минусинского городского архива и Национального архива Республики Хакасия39. Одну группу источников составили материалы статистического и биографического характера -именные списки и регистрационные карточки польских пленных, находившихся на территории Минусинского уезда в ожидании репатриации. Во вторую группу вошли документы делопроизводственного характера - переписка сотрудников органов советской власти по вопросам содержания и подготовки репатриации пленных поляков на родину.
Вопрос о судьбе польских пленных правительством большевиков решался в контексте идеи расширения социалистической революции на запад. В связи с этим советско-польская война трактовалась как классовая. Победа в войне и успех в деле распространения коммунистической идеологии ставили задачу обращения польских военнопленных в сторонников советской власти. Общий курс правительства большевиков в отношении пленных предусматривал осуществление политико-просветительской работы, которая бы позволила сформировать в их сознании положительный образ советской власти и найти агентов коммунистической пропаганды в Польше. Для наибольшей эффективности революционной агитации следовало изолировать от общей массы пленных контрреволюционные элементы (дворян, офицеров и представителей интеллигенции), а солдат содер- жать группами по 200-300 человек. Поскольку военнопленные использовались на «производительных работах», то в августе 1920 г. постановлением СТО их передали в ведение Главного управления принудительных работ и повинностей при НКВД. Чтобы не допустить озлобления пленных против советской власти, рекомендовалось улучшить условия их содержания в лагерях, питание и вещевое довольствие [1, с. 50-52].
В Сибири из польских пленных была сформирована военно-трудовая армия. На территории Минусинского уезда Енисейской губернии находилась б-я рота 9-го батальона 4-й Сибирской военно-трудовой бригады. В 1920—1921 гг. 287 польских пленных трудились на предприятиях тяжелой промышленности уезда - Калягинских, Черногорских и Изыхских копях и Абаканском заводе (Муниципальное казенное учреждение «Архив города Минусинска», далее - МКУ АГМ. Ф. Р-25. Он. 1. Д. 545. Л. 1-15). На рудниках использовался труд и других иностранных пленных. Например, в 1920 г. для работы на Черногорских угольных копях были направлены 10 венгров (Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив», далее - ГКУ РХ НА. Ф. 505. On. 1. Д. 14. Л. 26-26 об.). Основная масса пленных была занята тяжелым физическим трудом, но ряд поляков выполнял обязанности, предполагающие наличие образования и специальных профессиональных навыков. На Черногорских копях пленные Б. Малькевич, В. Стру-зик и Т. Швейцер, имевшие среднее образование, были конторщиками, а К. Чиж, получивший до войны высшее образование, работал счетоводом (ГКУ РХ НА. Ф. 14. On. 1. Д. 21. Л. 11-12; МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 246. Л. 107 об.).
Группа польских пленных из 70 человек была трудоустроена в советских учреждениях Минусинского уезда. В основном это лица, получившие до войны высшее и среднее образование и профессиональные навыки в сфере финансов, медицины, агрономии и др. Несколько пленных в качестве специалистов были в индивидуальном порядке командированы в уезд Енисейским губис-полкомом. В 1920-1921 гг. в уземотделе работали ветеринары Я. Лозовский, Ф. Терпиловский, агрономы И. Лаский и В. Маниковский, гидротехники Н. Щениковский и Ю. Григляшевский, землемер А. Чайковский. В уздравотделе трудились дезинфектор С. Хибовский, зубной врач Е. Лючинская, метеоролог М. Андроновский. Пленные Г. Богуславский и В. Шершушин, имевшие педагогическое образование, и музыкант С. Мальчевский работали учителями. На рабочем факультете пре- подавал математику бывший студент Львовского училища Я. Яворский (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 545. Л. 1 об.-2, 11 об.-12, 14 об.-15).
Отношение советской власти к польским пленным было в целом настороженным. Сказывалось влияние таких неблагоприятных обстоятельств, как советско-польская война и участие поляков в «белом движении». В циркуляре Сибревкома от 10 июня 1920 г. говорилось: «...Немедленно исключить со службы со всех советских, общественных, кооперативных и других учреждений и организаций и заключить таковых в лагеря принудительных работ всех польских граждан, а также лиц польской национальности, подавших заявление о получении польского гражданства...». Однако потребность региона в профессиональных кадрах была столь велика, что представители советской власти не могли отказаться от услуг специалистов польской национальности. В дополнении к циркуляру от 22.07.1920 г. говорилась о том, что поляки «кроме лиц, служивших в польских легионах», могут остаться на службе в советских учреждениях под личную ответственность их руководителей. 30 октября 1920 г. в Минусинский исполком поступило новое разъяснение содержания июньского циркуляра. В нем говорилось о том, что в ряде уездов подозрительность советских руководителей в отношении поляков распространялась даже на членов РКПб вопреки установке Сибревкома «ударить исключительно по польской буржуазии» (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 237. Л. 13-13 об.). В Минусинском уезде негативное отношение советской власти к польским военнопленным не находит документального подтверждения. Напротив, руководители учреждений и предприятий отмечали высокий профессионализм некоторых пленных, так что найти им адекватную замену было практически невозможно. Когда летом 1920 г. началась мобилизация на действительную военную службу для отправки на западные фронты (врангелевский и польский), в уездный военкомат поступили ходатайства о предоставлении отсрочки наиболее ценным сотрудникам (МКУ АГМ. Ф. Р-1. On. 1. Д. 37. Л. 32, 263). Поэтому польские пленные, желавшие сотрудничать с советской властью, продолжали работать в учреждениях Минусинского уезда. Однако это не снимало с них подозрений в возможной контрреволюционной деятельности. Советские руководители, под чьим началом работали поляки, должны были отслеживать их перемещения по уезду, в частности поездки в командировки (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 345. Л. 107). Продолжали розыскные мероприятия органы ЧК.
В начале 1920-х гг. в Минусинском уезде «политическая ситуация» была неспокойной. Разрозненные вооруженные группы людей под видом партизан нападали на местных жителей, стремясь таким образом спровоцировать «контрреволюционные выступления» (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 237. Л. 107). В 1920-1921 гг. в минусинской тюрьме был раскрыт «заговор» группы заключенных (в их числе - два поляка), якобы намеревавшихся захватить тюрьму, разоружить охрану и прорваться к местной антисоветской банде И. Занина [10, с. 66]. В этот же период несколько польских военнопленных были арестованы и заключены в тюрьму по обвинению в активной антисоветской деятельности в 1919 г. (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 9. Л. 27-29, 67-68, 101).
После заключения перемирия между Польшей и Советской Россией в октябре 1920 г. началась подготовка к репатриации пленных граждан. Отношение к предстоящей репатриации выразил Ф. Дзержинский: «...Вести коммунистическую пропаганду, чтобы пленные, вернувшись в Польшу, были нашими». В феврале 1921 г. при НКВД была учреждена должность особоуполномоченного по польским военнопленным [1, с. 53]. Активизировалась политико-воспитательная работа с целью предупредить массовый отъезд поляков на родину, особенно представителей буржуазии [8, с. 56-58]. В лагерях среди польских военнопленных проводилась агитация за вступление в Красную армию [1,с. 56].
На основании распоряжения НКВД и председателя ВЧК от 08.03.1921 г. в Сибири началась процедура регистрации военнопленных поляков. В соответствии с приказом Енисейского губиспол-кома от 26.03.1921 г. лицам польской национальности, военнопленным «империалистической войны, а также состоявшим на службе в Польской и Колчаковской армии» следовало в 5-дневный срок лично явиться в уэваки и волисполкомы с документами, устанавливающими национальность, место рождения, плена и трудоустройства на момент регистрации. Первый день регистрации был назначен на 30 марта (МКУ АГМ. Ф. Р-25. Он. 1. Д. 345. Л. 18-19). Объявленного срока, однако, оказалось недостаточно, и 28 июля 1921 г. Минусинский исполком объявил дополнительную трехдневную регистрацию польских военнопленных (ГКУ РХ НА. Ф. 505. Он. 1. Д. 14. Л. 133). Она носила обязательный характер для всех пленных, даже тех, кто содержался под конвоем, и инвалидов. Тяжелобольным предоставлялась отсрочка до выздоровления при условии наличия подтверждающего медицинского документа. Проживающие в волостях польские пленные (вместе с членами семей, если таковые имелись) после регистрации в исполкомах отправлялись в Минусинск, а оттуда в Красноярск. Поляки, желавшие получить гражданство РСФСР, должны были подать мотивированные ходатайства. Для рассмотрения ходатайств при Енисейском губисполкоме в Красноярске была создана специальная комиссия в составе заведующего подотделом Общественных работ и повинностей, представителей ЧК, Польбюро при губернском комитете РКП и отдела юстиции. Польские пленные, добровольно вступившие в ряды Красной армии, а также члены РКПб имели право получения советского гражданства (МКУ АГМ. Ф. Р-25. Он. 1. Д. 345. Л. 7, 18 об.).
В ходе регистрации руководители уездного исполкома столкнулись с несколькими проблемами. Например, не все пленные могли представить документы, удостоверяющие личность и польское происхождение. У нескольких человек единственным документом было удостоверение командира б-й роты военно-трудовой бригады. Личные данные (год, место рождения, образование и пр.) членов роты И. Черняка, С. Фашовича и Я. Гонсинского были записаны с их слов (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 545. Л. 4 об.-5, И об,-12). Некоторые пленные отказывались от регистрации и даже пытались скрыть факт службы в 5-й дивизии, несмотря на угрозу заключения в концлагерь «как явно укрывающихся» (ГКУ РХ НА. Ф. 505. On. 1. Д. 14. Л. 133). Встал вопрос и о том, кого из военнопленных считать «поляком» (или польским гражданином). Среди военнопленных 5-й дивизии встречались русские и белорусы, родившиеся на территориях, вошедших после Первой мировой войны в состав Польши. На этом основании в 1919г. они получили польское гражданство и вступили в дивизию. Каждый третий пленный, проживавший в Минусинском уезде (всего 418 человек на начало 1921 г), являлся уроженцем Российской империи [6]. В апреле 1921 г. из Минусинска в Енисейский губисполком последовал запрос: «...Достаточно ли для регистрации военнопленных поляков удостоверения комроты 4 Сибвоентрудбригады в том, что находящиеся в его роте трудармейцы действительно польской национальности...». Для установления принадлежности к последней при Минусинском исполкоме была создана комиссия, в которую вошли советские руководители-поляки: Борейко, Ходкевич и Пржебыльский (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 345. Л. 21).
Отдельно решался вопрос о реэвакуации инвалидов, имевших право отъезда на родину в первую очередь. Инвалидами признавались лица, утратившие трудоспособность на 55 %. На начало 1921 г. таковыми были 19 человек. Однако в период регистрации военнопленных в апреле-июле 1921 г. этот список увеличился до 64 человек. В него были включены 12 поляков, трудоспособность которых на момент составления списка еще не была установлена, и еще 33 человека, считавшиеся здоровыми (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 545. Л. 1-15). В августе 1921 г. инвалидов надлежало отправить в Красноярск на пароме «Спартак» - всего 87 человек (35 военнопленных и 52 члена семьи (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 9. Л. 1-137). Не все военнопленные-инвалиды воспользовались правом репатриации. В частности, не встречается в списке выезжавших на родину имя агронома И. Лаского. Остался в Минусинске с женой и дочерью бывший подданный Австро-Венгрии А. Дунин-Ожа-ровский (МКУ АГМ. Ф. Р-25. Оп. 2. Д. 58. Л. 1-5).
Не удалось установить, сколько польских военнопленных выехало в 1921 г. из Минусинска в Красноярск, а затем в Польшу. В 1922-1923 гг. в Минусинском уезде из них проживали 10 человек: 7 были уроженцами Российской империи, а 3 - Австро-Венгрии (МКУ АГМ. Ф. Р-25. On. 1. Д. 545. Л. 4 об.-5, 6 об. - 7, 8 об.-9, 9 об.-10, 11 об,-12, 14 об.-15). Из 8 военнопленных-членов РКПб в уезде остался только Я. Кулита (ГКУ РХ НА. Ф. 14. Оп. ЕД. 21. Л. 167).
Всего в Сибири правом репатриации воспользовались 5572 военнопленных [3, с. 22-23]. Это составило примерно половину от тех, кто попал в плен у станции Клюквенная в январе 1920 г. Значительная часть из них оставалась в Сибири, и тому были причины. Советское правительство не было заинтересовано в массовом отъезде поляков на родину. Решение нескольких тысяч военнопленных остаться в советской России стало бы свидетельством преимущества нового строя. К тому же это могло восполнить значительные людские потери в период Первой мировой и Гражданской войн. Развернутая большевиками агитация могла повлиять на решение части пленных не покидать Россию. Многие из них родились в Российской империи, идентифицировали себя с русской культурой и не представляли своей судьбы за ее пределами [5, с. 46]. По идейным соображениям не пожелали уехать в буржуазную Польшу члены РКПб. Наконец, пленные, принадлежавшие к буржуазии, дворянству и интеллигенции, могли поддаться убеждению представителей советской власти остаться в Советской России. Эта группа обладала высоким интеллектуальным потенциалом благодаря образованию и профессиональным навыкам, полученным до войны. Страна, возрождающаяся из разрухи после Гражданской войны, нуждалась в таких людях. Были и глубоко личные мотивы отказа от права репатриации. Многие молодые мужчины, оторванные в годы Первой мировой войны от родных мест и семьи, успели устроить в Сибири личную жизнь.
Список литературы К вопросу о репатриации польских военнопленных - участников «белого движения» в 1921 г
- Костюшко И.И. К вопросу о польских пленных 1920 г.//Славяноведение. 2000. № 3. С. 42-62.
- Леончик С.В. Поезд идет на восток. К вопросу об участии поляков в белом движении в Сибири 1918-1921 гг.//Енисейской губернии -180 лет: материалы IV краеведческих чтений. Красноярск, декабрь 2002 г. Красноярск, 2003. С. 97-101;
- Масяж В. Поляки в Восточной Сибири (1907-1947 гг.): автореф. дис..д-ра ист. наук. Иркутск, 1995.
- Нам И.В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе (1917-1922 гг.). Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009.
- Нам И.В. Польские войска в Сибири//Поляки в Сибири. Поляки о Сибири: материалы I Междунар. науч. конф. (Томск, 3-5 июня 2012 г.)/отв. ред. ТВ. Галкина, Т.А. Гончарова. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2012. С. 43-57.
- Оплаканская Р.В. Пленные 5-й польской стрелковой дивизии в Минусинском уезде в начале 1920-х гг.//Гуманитарные науки в Сибири. 2013. №3. С. 18-21.
- Островский Л.К. Польские военные в Сибири (1904-1920 гг.)//Вестник Томского государственного университета. 2008. № 316. С. 88-92.
- Островский Л.К. Советская власть и польское население Западной Сибири (первая половина 1920-х гг.)//Гуманитарные науки в Сибири. 2011. №4. С. 56-58.
- Резмер В. Польские военнопленные в большевистском плену в Сибири в 1920-1922 гг.//Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы: сб. материалов международной научной конференции. Иркутск, 2001. С.127-129.
- Шекшеев А.П. Минусинский тюремный заговор//Енисейской губернии -180 лет. Материалы IV краеведческих чтений. Красноярск, декабрь 2002 г. Красноярск, 2003. С. 66-69.
- Neja, Г, 1998. Charakterystika Srodowiska V diwizji strzelcow polskich na Syberii//Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Wroclaw, pp.277-284.
- Rezmer W. Žolnieže polscy na Syberii 1918-1921. Materialy Zrudlowe w Polsce//Поляки в Сибири. Поляки о Сибири: материалы I Междунар. науч. конф. (Томск, 3-5 июня 2012 г.). Томск: Изд-во Томского гос. педагог, ун-та, 2012. С. 57-68.
- Wisniewski, Г, 2005. Poslowie. Karta. Kwartalnik historyczny, no. 44, pp. 67-69.