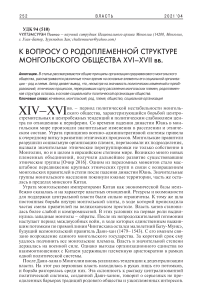К вопросу о родоплеменной структуре монгольского общества XVI-XVII вв
Автор: Чултэмсурэн Poogoo
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются общие принципы организации средневекового монгольского общества, рассматриваются различные точки зрения на основные элементы его социальной организации - род и племя. Автор делает вывод, что, несмотря на значимость политических изменений и преобразований, этнических процессов, перекроивших карту расселения монгольских племен, родоплеменная структура осталась в основе социальной и политической организации общества.
Кочевники, монгольский, род, племя, общество, социальная организация
Короткий адрес: https://sciup.org/170178946
IDR: 170178946 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v29i4.8413
Текст научной статьи К вопросу о родоплеменной структуре монгольского общества XVI-XVII вв
Утрата монгольскими императорами Китая как экономической базы неизбежно сказалась и на характере властных отношений. Ресурсы и возможности для поддержки центральной власти были сильно ограничены. К тому же шла постоянная борьба внутри монгольской элиты, в ходе которой происходила частая смена правителей на великоханском престоле. Власть ханов становилась более слабой и компромиссной. В этих условиях на первые роли выдвинулись западные монголы – ойраты. После их непродолжительной гегемонии наступает период междоусобных войн, в ходе которых единственным выжившим потомком по прямой линии Чингисхана остался малолетний Бату-Мункэ, будущий всемонгольский правитель Даян-хан (1479–1543). С его именем связано возрождение единого монгольского государства. За короткий срок ему удалось подчинить все монгольские племена. Власть в значительной степени держалась на военной силе. Однако выгоды организационного единства во взаимоотношениях с Китаем удерживали племенную аристократию в рамках одной политической системы.
После Даян-хана в Монголии вновь усилились тенденции к децентрализации власти. На этот раз верховная власть находилась в руках лишь его потомков, и борьба разгорелась среди них. Эта склонность к распаду централизованной политической системы, созданной Даян-ханом, говорит о серьезных не преодоленных барьерах традиций родового общества и узкоплеменных интересов.
Как и прежде, среди монгольской элиты господствовало воззрение о нераздельном династийном роде и общем совладении ханством всех его представителей. В каждом последующем поколении происходило выделение уделов среди сыновей правителя. Со временем правящий род значительно расширился, а принцип обязательного наделения продолжал действовать.
Свои претензии на ханскую власть начинают предъявлять все большее число владетельных князей, и они обретают все большую самостоятельность. Здесь мы сталкиваемся с очередным политическим циклом в кочевой истории, который свидетельствует, что основа социальной и политической организации не претерпела особых изменений.
Как и в раннее Средневековье, в монгольском обществе XVI–XVII вв. по-прежнему сохранялся принцип родоплеменного деления [Скрынникова 1988]. Родство – это фактор социальной конфигурации кочевого общества. Оно отвечает текучей социальной организации, вызванной нестабильностью пастбищной скотоводческой экономики. Известно, что родство в монгольском обществе играло важную интегрирующую роль, структурируя общественные отношения не только на уровне малых коллективов родственников и свойственников, но и на более высоких уровнях организации общества. На протяжении длительного времени род выступал как важный общественный институт кочевого социума монголов. Это связано с тем, что, в отличие от оседло-земледельческих обществ, где наблюдается последовательный однонаправленный процесс смены родовой организации на территориальную, у кочевых народов преобладание родовых отношений в общественном устройстве оставалось главным условием существования номадного общества [Марков 1976; Хазанов 1975].
В то же время применительно к кочевому обществу монголов понятие «классический род» с характерными признаками экзогамии и принципом кровного родства (генеалогический род) практически мало отражает реалии его общественной организации. Говоря о родоплеменной организации народов Средней Азии, известный кочевниковед С.М. Абрамзон подчеркивал, что понятие «род», которым оперируют исследователи, является абстрактной и отвлеченной категорией. Путаница и противоречивость в употреблении данного термина возникает при попытках разобраться в «родовых» делениях и связанных с ними генеалогических схемах [Абрамзон 1951].
На современном этапе в интерпретации сущности рода как социального института выделяются два основных направления. Первое направление, которое было господствующим в советское время, связано с парадигмой эволюционизма. Род, сменив первобытное стадо, стал первичной и универсальной формой социальной организации. Унилинейный принцип, обусловленный экзогамией, создавал основу для более крупных объединений, состоявших из нескольких родов. Эволюционная схема строилась из представлений о первичности матрилинейного принципа в организации рода. Материнский род стадиально предшествовал отцовскому и отражал первобытный эгалитаризм в социальной организации. Замещение материнского рода отцовским было связано с переходом к более производительным формам хозяйства, которые возвысили роль мужчины в хозяйстве. Возникают большие патриархальные семьи, которые стали основным экономическим институтом. Род в данном случае теряет свои хозяйственный функции и сохраняет в основном брачно-регулирующие и ритуальные функции.
Второе направление тесно связано с представлением о роде как о динамичной форме социальной организации. Род как социально-экономический институт не является обязательно присущим человеческому коллективу. Формой обще- жития человеческих коллективов была община. Род и община сосуществовали и представляли разные социальные объединения. Род регулировал брачные отношения и не выполнял роли производственной ячейки. Община состояла из членов разных родов, однако в основе общины были все же выходцы из одного рода. Проявление материнского или отцовского счета происхождения определялось конкретными условиями1.
Рассмотрение рода не как стадиального института, лежащего в основе регуляции всех сторон жизнедеятельности общества, а существующего наряду с иными формами социальной организации и с определенным набором функций, как нам кажется, имеет при исследовании кочевых обществ большое методологическое значение.
И действительно, выявление четко ограниченной по обозначенным признакам рода как целостного социального и структурного элемента общественной организации у кочевников представляется весьма затруднительным. Фактические кровнородственные связи ассоциировали несколько кочевых домохозяйств (айлов), являясь основой низовой организации общества. Более крупные объединения уже трудно однозначно прослеживать по кровнородственным линиям. Они могли основываться и на псевдородственных отношениях. Именно расширительное толкование рода позволяло на основе псев-догенеалогического родства создавать крупные племенные объединения, где кочевые группы представляли элементы генеалогически иерархизированных систем.
Для монгольского средневекового общества исследователи предлагают различные интерпретации его социальной организации [Владимирцов 1934; Bacon 1958; Barfield 1992; Khazanov 1984; Krader 1963; Марков 1970; Крадин, Скрынникова 2006].
Применительно к монгольскому обществу XI–XIII вв. эту амбивалентность довольно отчетливо подметил Б.Я. Владимирцов: «Роды… близки друг другу, составляли у древних монголов племя или подплемя (поколение), которое называлось irgen… Конечно, в некоторых случаях трудно провести строгое различие между родом – obox, который сам являлся величиной сложной, притом часто из разнокровных элементов… и племенем irgen. Татары и кереиты тоже были irgen, хотя в состав их входили отдельные племена (irgen), в свою очередь состоявшие из нескольких родов – obox» [Владимирцов 1934: 79].
О том, что конический клан составлял основу социальной организации монголоязычных кочевников, пишут Б. Бекон и Л. Кредер [Bacon 1958; Krader 1963]. Выявленная Бекон сегментация кочевого общества и амбивалентность кочевых групп, декларирующих свою целостность с помощью представлений об общности происхождения, позволила ей говорить о наличии конического принципа в организации рода.
Л. Кредер на основе этнографических параллелей установил, что в тюркомонгольских общностях генеалогические кланы (эквивалент клана в значении П. Кирхгоффа) и родственные группы были основой социальной структуры. Он считал, что общество евразийских кочевников основано на генеалогическом ранжировании с учетом наследственного принципа при-могенитуры: «Клановая генеалогия является средством, при помощи которого демонстрируется происхождение от общего предка и устанавливается кровное родство. Более того, она является средством, определяющим соответствующий социальный ранг… Генеалогия указывает на членство индивида в группе, где он может быть лично неизвестен, и узаконивает его притязания на определенный ранг. В таких обществах нет двух абсолютно равных членов, каждый находит свое место в системе коллатерально ранжированных линий происхождения от общего предка. Ранжирование самих генеалогических линий и индивидов внутри каждой линии основано на принципе примогени-туры» [Krader 1963: 369].
С таким видением общественной организации не согласен А.М. Хазанов. Он утверждает, что ни последовательная примогенитура и постоянное ранжирование коллатеральных линий в соответствии с их генеалогическим отношением к предку, ни зависимость социальных позиций индивида от порядка его рождения не были присущи кочевникам евразийских степей [Хазанов 2008: 202]. В качестве примеров он приводит отсутствие устойчивых правил наследования власти в империи Чингисхана, государствах Чингизидов, средневековых киргизском и казахском обществах.
Наиболее отчетливо иерархия форм организации общества монголов была определена в работе Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой, посвященной истории империи Чингизхана [Крадин, Скрынникова 2006]. Его основным низовым элементом выступал урук – линидж патрилинейных родственников, далее – обок, в который включались не только родственники, но и члены, вошедшие в род по браку, затем следовали общности, которые объединяли несколько обоков и идентифицировались как этнокультурные единицы – иргэн, улус [Крадин, Скрынникова 2006]. В своем исследовании ученые исходили из следующего определения рода как социальной формы: родом считается коллектив, «принадлежность к которому определяется унилинейно, только по одной, материнской или отцовской, линии и внутри которого нормами экзогамии запрещены брачные связи... Для ранней родовой организации характерно горизонтальное, определяемое через тотем родство, которое только с развитием этой организации превратилось в родство вертикальное, или предковое, то есть предполагающее наличие общего родоначальника... При развитой родовой организации отдельные роды обычно делились на линиджи, а совокупность взаимобрачных родов из только этнической языково-культурной общности превращалась также и в консолидированную социально-потестарную организацию – племя как этносоциальную общность. Сами роды тоже были не только унилинейными и экзогамными ячейками, но и субъектами коллективной собственности на землю, организацией материальной взаимопомощи и физической взаимозащиты, могли иметь своих предводителей, адаптировали в свой состав новых членов и обладали развитым родовым культом, а также выраженным сознанием родовой принадлежности, находившим отражение в общем самосознании... Отцовская или материнская родовая организация широко сохранялась и после утраты родовой общиной своих экономических функций в разлагавшемся первобытнообщинном и даже раннеклассовом обществе (например, у древних греков и римлян). В этих случаях она лишь регулировала брачные отношения, обеспечивала взаимозащиту членов рода и сохраняла свою культовую роль» [Крадин, Скрынникова 2006].
Для более высокого уровня политической организации основой объединения служил принцип происхождения, определяющий структуру и вза имосвязи внутри кочевого общества. Классическим в отношении важности данного принципа для кочевников является характеристика, данная Г.Е. Марковым. «Действительное кровное родство существовало только внутри аилов, небольших племенных подразделений. Более крупные элементы общественной организации связывались между собой идеологически легендарными формально-генеалогическими представлениями о родстве. В усло- виях подвижной жизни родственно-генеалогический принцип объяснения общественных связей был важнейшим и, пожалуй, единственно возможным способом осознания реального хозяйственного и политического единства» [Марков 1976: 55]. Взгляды на то, что родоплеменные структуры – наиболее адекватная форма организации при кочевом образе жизни, разделяются и другими учеными [Залкинд 1970; Толыбеков 1971; Поляков 1980; Семенов 1982; Калиновская, Марков 1983].
Таким образом, род как институт социальной организации монгольского общества структурировал первичные группы кочевников и был действительно универсальной формой. С переходом на более высокие уровни общественной организации род оставался составляющим элементом племени.
Основные дискуссии кочевниковедов связаны именно с племенным уровнем. Концептуальная путаница возникает из-за многопланового понимания термина «племя». Институт племени представляет собой переплетение социальных и политических отношений. Известный исследователь монгольского средневекового общества Т.Д. Скрынникова пишет: «…многозначность нативных терминов социальной организации и политической структуры монгольского общества, сложность передачи понятий языка средневековой культуры, которые в науке до сих пор остаются дискуссионными, не могут не отразиться на языке современном и на понимании социально-политических процессов Монгольской империи» [Крадин, Скрынникова 2006: 82]. На уровне племени мы имеем смешение двух аспектов социальной организации кочевого общества: генеалогического и политического. Как указывает А.М. Хазанов, наиболее подходящим для этого принципом в большинстве кочевых обществ оказывается происхождение, в котором концептуализируется структурообразующая роль отношений родства [Хазанов 2008: 170].
В истории не раз возникали крупные политические организации – кочевые империи, по внешним признакам отвечающие содержанию государства. Однако весь генезис происходит при устойчивом сохранении родоплеменной структуры. Институционализация и централизация власти в кочевом обществе нередко отставали от уровня социальной дифференциации. Механизмом формирования политического и идеологического единства кочевников служило конструирование новых генеалогических «историй». Для кочевников был естественным процесс перманентного переструктурирования: роды объединялись, распадались племена, создавались племенные конфедерации и т.д. «Благодаря генеалогиям и соответствующим сознательным или бессознательным манипуляциям ими, их способностью к сужению или расширению, расщеплению и слиянию в зависимости от практических потребностей и конкретной исторической ситуации, социальная организация в целом и ее различные типологические планы в идеологическом отношении приобретают необходимую гибкость, способность к реорганизации применительно к новым условиям, но с сохранением одних и тех же структурообразующих принципов» [Хазанов 2008: 173].
Видный специалист по монгольской истории К. Этвуд, не соглашаясь с тем, что в социальной организации кочевников Внутренней Азии отсутствовала базовая социальная форма, а были лишь общие принципы объединения и деления – конический клан и сегментарные роды, утверждает, что средневековое монгольское общество действительно имело таковую в системе территориальных делений, которые он именует апанажами (удельными владениями). Он полагает, что апанажи принципиально отличались от родов (oboq) и племен (ayimaq), во-первых, прежде всего территориальной основой организации, во-вторых, тем, что их эффективность функционирования находилась в глубо- кой зависимости от «государства», и в-третьих, в том, что они в противоположность роду и племени постоянно упоминались в источниках.
Эти апанажи имеют двоякую идентичность. С одной стороны, они функционируют как удельные владения, т.е. это определенная территория с населением, закрепленная по наследству за конкретным знатным человеком и его потомками, как единица местного самоуправления. С другой стороны, в то же время каждый такой удел функционирует как закрытое корпоративное сообщество, т.е. группа людей, которые сохраняют бессрочные права и членство в пределах своего удела [Atwood 2012: 1-2].
Это утверждение представляется достаточно интересным, поскольку ставит вопрос о системе управления, не связанной с родоплеменной структурой, однако, на наш взгляд, применительно к монгольскому обществу XVI–XVII вв. требует дополнительной аргументации.
Рассмотренные выше взгляды на основы и принципы социальной организации монгольского общества могут быть в полной мере отнесены к периоду XVI–XVII вв. Несмотря на значимость политических изменений и преобразований, этнических процессов, перекроивших карту расселения монгольских племен, мы наблюдаем картину децентрализации политической системы, в основе которой оставалась родоплеменная структура общества.
Список литературы К вопросу о родоплеменной структуре монгольского общества XVI-XVII вв
- Абрамзон С.М. 1951. Формы родоплеменной организации у кочевников Средней Азии. — Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. Т. XIV. М.: Изд-во АН СССР. С. 132-156.
- Владимирцов Б.Я. 1934. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР. 223 с.
- Залкинд Е.М. 1970. Общественный строй бурят в XVIII — первой половине XIXв. М.: Наука. 400 с.
- Калиновская К.П., Марков Г.Е. 1983. Скотоводы Азии и Африки. Проблемы исторической типологии и периодизации. - Вестник МГУ. Сер. VIII: История. № 5. С. 59-72.
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. 2006. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература. 557 с.
- Марков Г.Е. 1970. Некоторые проблемы общественной организации кочевников Азии. - Советская этнография. № 6. С. 74-89.
- Марков Г.Е. 1976. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М.: Изд-во МГУ. 318 с.
- Очир А. 2016. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического состава монгольских народов. Элиста: Изд-во КИГИ РАН. 286 с.
- Поляков С.П. 1980. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. М.: МГУ. 168 с.
- Семенов Ю.И. 1982. Кочевничество и некоторые общие проблемы теории хозяйства и общества. - Советская этнография. № 2. С. 48-59.
- Скрынникова Т.Д. 1988. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI— начало XXвека. Новосибирск: Наука. Сиб. отд. 104 с.
- Толыбеков С.Е. 1971. Кочевое общество казахов в XVII — начале XX веков (Политико-экономический анализ). Алма-Ата: Наука. 633 с.
- Хазанов А. М. 1975. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М.: Наука. 334 с.
- Хазанов А. М. 2008. Кочевники и внешний мир. 4-е изд. СПб: Изд-во СПбГУ. 512 с.
- Atwood C. 2012. Banner, Otog, Thousand: Appanage Communities as the Basic Unit of Traditional Mongolian Society. -Mongolian Studies. Vol. 34. P. 1-76.
- Bacon E. 1958. Obok: A Study of Social Structure in Eurasia. N.Y.: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. 235 p.
- Barfield T. 1992. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757. Cambridge, Mass. and Oxford: Blackwell. 348 p.
- Khazanov A.M. 1984. Nomads and the Outside World. Cambridge: Cambridge University Press. 369 p.
- Krader L. 1963. The Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague: Mouton. 412 p.