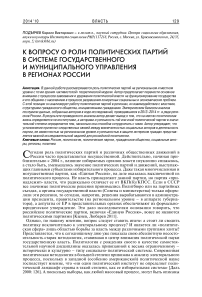К вопросу о роли политических партий в системе государственного и муниципального управления в регионах России
Автор: Подъячев Кирилл Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной работе рассматривается роль политических партий на региональном и местном уровне с точки зрения «активистской» теоретической модели. Автор предполагает перенести основное внимание с процессов завоевания и удержания политической власти на функционирование государства и его общение с населением в процессе разрешения конкретных социальных и экономических проблем. С этой позиции он анализирует работу политических партий в регионах, их взаимодействие с властями, структурами гражданского общества, инициативными гражданами. Эмпирическим базисом анализа послужили данные, собранные автором в ходе исследований, проводившихся в 2013-2014 гг. в ряде регионов России. В результате проведенного анализа автор делает вывод о том, что на местах политическая жизнь определяется не институтами, а акторами и успешность той или иной политической партии в значительной степени определяется тем, насколько она способна сотрудничать с ними. Автор утверждает, что установление причинно-следственных связей между вовлеченностью социальных акторов в деятельность партии, ее известностью на региональном уровне и успешностью в защите интересов граждан представляется важной исследовательской задачей для российской политологии.
Россия, политология, политические партии, гражданское общество, социальные акторы, регионы, политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170167197
IDR: 170167197
Текст научной статьи К вопросу о роли политических партий в системе государственного и муниципального управления в регионах России
С егодня роль политических партий и различных общественных движений в
России часто представляется несущественной. Действительно, начиная приблизительно с 2004 г., влияние избираемых органов власти неуклонно снижалось, а стало быть, уменьшалось значение политических партий и движений, выступающих главными субъектами избирательного процесса. Даже такая многочисленная и могущественная партия, как «Единая Россия», на деле оказалась выключенной из политического процесса. Не власть принадлежит данной партии, но партия «принадлежит» власти, что радикально отличает ее от ВКП(б)/КПСС. Если в СССР все значимые политические решения принимались Политбюро или на партийных съездах, а органы государственной власти (Советы и министерства) только оформляли эти решения, то сегодня, напротив, решения вырабатываются в администрации президента, правительстве (на региональном уровне — в аппарате губернатора), а депутаты от ЕР в представительных органах обеспечивают их формальноюридическое утверждение. Это дало исследователям основания говорить, что российские политические партии, включая «Единую Россию», вовсе не являются политическими партиями [Кынев, Любарев 2011].
Однако, по нашему мнению, вопрос следует ставить иначе: а стоит ли сводить политику исключительно к электоральному процессу? И является ли «политическая сфера» лишь областью борьбы за власть между различными группами элиты? Представляется, что к сегодняшнему дню уже показала свою абсолютную несостоятельность старая методология, ставившая в центр внимания политической науки государственную власть. Политология с рождения своего в качестве самостоятельной научной дисциплины оказалась привязанной к весьма ограниченному — исторически и культурно — типу социально-политической системы. Современная политическая методология в большей степени привязана к анализу электорального процесса, поскольку в западной (особенно американской) политической науке господствует мнение, что «ни один политический институт не определяет политический ландшафт страны в такой степени, как ее избирательная система» [Даль 2000: 126]. А поскольку выборы, как любой массовый процесс, могут быть описаны статистически и, стало быть, математически смоделированы, политическая методология попала в жесткие тиски «модельного подхода», эконометрики, математической статистики и комбинаторики [Джексон 1999: 701]. В 1970-х гг. этот подход рассматривался как существенный шаг вперед [Дойч 2008: 188], но там, где сбор количественных данных затруднен, статистика оказывается в тупике, и феномены неэлекторальной природы просто выпадают из ее поля зрения.
В итоге все, что могла бы предложить политология специфически «своего», попало в абсолютную зависимость от одного политического института. Такая политология действительно оказывается в тупике, если избирательная система перестает оказывать существенное влияние на расстановку политических сил. И этой науке совершенно нечего сказать тем общественным силам, которые и не собираются встраиваться в государственную власть или с ней конкурировать, но стремятся только к улучшению окружающей действительности (гражданским движениям, например). Потому современным исследователям стоит по-иному посмотреть на объект исследования политической науки.
Какая бы судьба ни постигла институт выборов, и каким бы авторитарным и закрытым ни был политический режим, социальные проблемы никуда не исчезают, процесс артикуляции и агрегирования интересов не прекращается! А процесс этот гораздо шире, чем собственно борьба за доступ к властному ресурсу; в него вовлечены гораздо более значительные социальные силы. Вместе с тем он не может рассматриваться в отрыве от политики в традиционном ее понимании. Как отметил авторитетный российский политолог А. Галкин, «политические сигналы, поступающие от индивидов, не могут быть сведены к электоральным действиям. По сути дела любая акция, адресованная гражданином политическим институтам (будь то письменное послание, отказ платить налоги, девиантное поведение), является политическим действием» [Галкин 2004]. Таким образом, не борьба за обладание государственной властью как инструментом легального насилия, но процесс выявления и разрешения социальных проблем при участии государственной власти – вот что представляется нам достойным объектом исследования современной политологии. В этом ключе мы предлагаем рассматривать роль политических партий в современной России.
Основным теоретико-методологическим базисом нашего исследования является двухчастная модель социального мира, восходящая к Г. Гегелю и А. Токвилю. В этой модели существуют две сферы: политическое сообщество (или политическая система), в которое входят, помимо государства, политические партии, группы давления и другие структуры, так или иначе связанные с завоеванием и осуществлением политической власти, и неполитическое сообщество – сфера частной жизни людей, преследующих свои личные (семейные) интересы. Две эти сферы существуют одновременно и параллельно в рамках одного целого – социума, но при этом их функционирование основано на абсолютно различных принципах. Политическая сфера, как это заметил еще Аристотель, ориентирована на общее благо, которое удивительным образом не только не является простой суммой частных благ, но представляет собой нечто в корне от них отличное.
Неполитическая сфера 1 ориентирована на разнородные частные блага, трудно совместимые друг с другом и объединяющиеся в некое групповое благо только случайным образом и на краткое время. Нормативным и аксиологическим центром политической сферы является власть, причем власть публичная. Для неполитической сферы ключевым понятием является интерес.
Соответственно, сама логика бытия этих сфер глубоко различна. Политическая сфера устроена вертикальным образом, она функционирует в логике иерархии, дисциплины, подчинения, ибо где нет подчинения, там нет власти, а где нет власти, там нет политики. Неполитическая же сфера действует в логике взаимо- действия, компромисса, договора. Таким образом, логики бытия двух этих сфер принципиально различны, едва ли не противоположны. А подобное различие логик приводит к тому, что коммуникация между этими сферами становится крайне затруднительной.
Данная исследовательская модель предполагает перенесение основного внимания с процессов завоевания и удержания политической власти на функционирование государства и его общение с населением в процессе разрешения конкретных социальных и экономических проблем. Строго говоря, наше предложение не содержит особенной научной новизны. Более того, его можно рассматривать как возврат к античному учению Аристотеля–Полибия о политике (точнее, политическом процессе) как поиске общего блага. Однако для российской политологии подобный подход является достаточно новым.
В ходе проводимых нами в 2013–2014 гг. исследований в ряде российских регионов (в т.ч. Нижегородской, Свердловской, Смоленской обл.) нам удалось собрать обширный эмпирический материал о политическом, экономическом и социокультурном развитии этих регионов, в т.ч. и о деятельности политических партий на региональном и местном уровне. При обобщении и анализе собранных данных нами была опробована описанная выше теоретическая модель. В результате нами был сделан ряд выводов.
Во-первых, примененный подход позволяет по-новому оценить специфический российский феномен «партии власти» – когда партия выступает как основной, центральный агент коммуникации, не будучи формально органом власти. В некоторой степени это связано с советским прошлым, когда формальные институты власти не были центром принятия решений. И граждане в те времена прекрасно знали, куда обращаться в случае возникновения проблем: в местные органы Коммунистической партии. Казалось бы, сегодня эту роль принимает на себя «Единая Россия». Однако практика показывает, что на местах это зачастую совсем не так. Хотя поток обращений граждан в местные отделения ЕР весьма плотен, едва ли не сильнее, чем в администрацию, но, судя по всему, это связано не с влиянием ЕР в регионе, а с тем, что через ЕР граждане рассчитывают успешнее достучаться до «первых лиц» федерального уровня: обращения поступают в первую очередь в созданные при отделениях ЕР общественные приемные Д.А. Медведева. По поводу же самой работы партии в регионах все респонденты высказывали одну мысль: «Хотите знать точку зрения “Единой России” – обращайтесь в аппарат губернатора», т.е. не партия является «высшей инстанцией» по отношению к местному руководству, а наоборот.
Во-вторых, можно отметить, что оппозиционные партии в регионах играют немалую, хотя и странную с точки зрения классической теории роль. Как показывает изучение протестных акций в регионах в период 2006–2011 гг., именно оппозиционные партии, не будучи, как правило, инициаторами протестных акций, поддерживают их и тем способствуют институционализации и формализации протестного движения [Подъячев 2012]. Через посредство этих партий стихийная энергия недовольства может быть направлена в конструктивное русло, к переговорному процессу, способствующему достижению компромисса. Можно предположить, что именно там, где «официальная», связанная с органами власти система коммуникации работает неудовлетворительно, оппозиционные партии (особенно если они имеют представителей в региональных законодательных органах) восполняют этот пробел, способствуя доведению требований граждан до принимающих решения должностных лиц и поиску компромисса. Конечно, с точки зрения классической теории такие партии партиями не являются [Кынев, Любарев 2011]. Однако, будучи привнесенным институтом, они приняли на себя специфичные, хотя и не характерные для «классической» партии функции и заняли определенную нишу.
В-третьих, протестные выступления в регионах, как правило, каузальны, они возникают по конкретным поводам (закрытие больницы, вырубка парка, разрушение красивого здания, разовое резкое повышение тарифов и т.п.) и инициируются активными гражданами. Политические партии присоединяются уже в процессе
(особенно в этом преуспела КПРФ). В значительной части подобные протесты приводят к капитуляции властей — вызывавшее недовольство решение отменяют, либо добиваются каких-то компромиссов. Жесткая конфронтация возникает лишь в двух случаях. Или местный руководитель (губернатор или мэр) стремится проводить «модернизацию», невзирая ни на что; «бежит впереди паровоза», дабы доложить федеральному правительству, что он уже «осуществил внедрение инноваций», которые только обсуждаются в Москве. Второй вариант — если решение, вызывающее недовольство населения, исходит не от местных властей, а от властей более высокого уровня. Местный руководитель в таких случаях, вероятно, был бы рад договориться, но опасается навлечь на себя гнев губернатора или федерального правительства. Тогда и могут пускаться в ход специфические средства: запреты на акции, одновременное проведение митингов ЕР или устройство ярмарок. Но и в этих случаях силовые акции (прямой разгон митинга, задержание участников) — большая редкость.
В-четвертых, по крайней мере на примере изученных нами регионов видно, что действительно можно наблюдать снижение интереса к «политике» в узком смысле, т.е. как к сфере, в которой разворачивается электоральный процесс. Очевидно, большинство людей воспринимают выборы как процедуру легитимации действующей власти, имеющую во многом торжественно-обрядовый характер. Сопровождающая избирательный процесс борьба рассматривается скорее как спектакль, разворачивающийся вокруг подробностей личной жизни кандидатов, а не как конкуренция программ. Представляется, что, за исключением КПРФ, все прочие значимые участники процесса вовсе не стремятся в результате выборов получить власть. Они хотят лишь набрать некоторый процент голосов (лучше побольше, но не слишком много), чтобы потом с завоеванных позиций вести торг с властями.
В целом вполне возможно согласиться с предположением М. Черныша (строившего свои выводы на китайском материале 2009 г.), что экономические условия жизни влияют на понимание человеком своих интересов, но это понимание не проецируется на область политики, не выражается в политическом поведении [Черныш 2013]. Хотя, возможно, как раз такое прохладное отношение к политике (электоральной!) и есть проекция интересов: стабильность и предсказуемость кажутся более соответствующими интересам граждан, чем новая волна быстрых и непонятных преобразований.
Наконец, особо следует отметить, что на местах политическая жизнь (в широком смысле, т.е. как поиск общего блага) определяется не институтами, а акторами. В социальных реалиях российских регионов акторами можно считать тех лиц, которые в состоянии «решать проблемы», т.е. помогать людям в их повседневной жизни, или делать что-то, что граждане сами сделать не в состоянии. Во многих случаях актором действительно является глава района или местной администрации. Но часто мы отмечали в качестве «акторов» заведующих библиотеками, директоров школ, руководителей досуговых клубов, а иногда и просто инициативных граждан, никакими формальными полномочиями не обладающих. Успешность той или иной политической партии (не только «Единой России», но и оппозиционной, даже не представленной в Госдуме) в значительной степени определяется тем, насколько она способна сотрудничать с этими «социальными акторами». Так, например, в г. Екатеринбурге «Гражданская платформа» М. Прохорова привлекла на свою сторону видных общественных деятелей — борца с наркоманией и крупного мецената Е. Ройзмана, защитника городской среды Л. Волкова и достигла успеха: Е. Ройзман был избран главой города.
Установить причинно-следственные связи между вовлеченностью социальных акторов в деятельность партии, между ее известностью на региональном уровне и успешностью в защите интересов граждан и таким образом определить роль политических партий в коммуникации власти и общества в регионе представляется важной исследовательской задачей для российской политологии.
Можно предположить, что на этом пути нас ждет еще немало открытий, и мы сможем приблизиться к пониманию того, чем же стали в России привнесенные извне институты партийно-парламентской демократии, в какой степени они деко- ративны, а в какой могут служить силами, действительно преобразующими жизнь страны.
Данная статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант № 13-33-01031 «Роль структур гражданского общества в социальных процессах современной России»).
Список литературы К вопросу о роли политических партий в системе государственного и муниципального управления в регионах России
- Галкин А.А. 2004. Индивид, общество и структуры власти. Размышления о политике и политической науке. -М.: ИСП РАН. 190 c.
- Даль Р.А. 2000. О демократии (пер. с англ.). М.: Аспект-пресс. 208 с.
- Джексон Д.И. 1999. Политическая методология: общие проблемы. -Политическая наука: новые направления. (пер. с англ., под ред. Р. Гудина, Х.Д. Клингеманна). М.: Вече. 816 с.
- Дойч К. 2008. О политической теории и политическом действии (пер. с англ.). -Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего.
- Кынев А.В., Любарев А.Е. 2011. Партии и выборы в современной России: Эволюция и деволюция. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение. 266 с.
- Подъячев К.В. 2012. Протестное движение в России «нулевых»: генезис и специфика//Вестник Института социологии (сетевой научный журнал). № 5.Доступ: http://www.vestnik.isras.ru/files/File/Vestnik_2012_5/Podychev.pdf
- Черныш М.Ф. 2013. О модернизации в России и Китае//Социс (Социологические исследования). № 4.