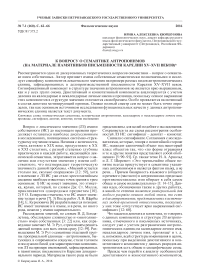К вопросу о семантике антропонимов (на материале памятников письменности Карелии XV-XVII веков)
Автор: Кюршунова И.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (160) т.1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один из дискуссионных теоретических вопросов ономастики - вопрос о семантике имен собственных. Автор признает имена собственные семантически полнозначными и исследует специфику компонентов лексического значения на примере разных видов антропонимических единиц, зафиксированных в делопроизводственной письменности Карелии XV-XVII веков. Сигнификативный компонент в структуре значения антропонимов не является ярко выраженным, как и у всех групп онома. Денотативный и коннотативный компоненты анализируются с учетом деления на календарные и некалендарные личные имена и прозвища, поскольку семное выражение этих компонентов в структуре значения отличается своеобразием. Особо проявляется включенный в состав денотата мотивирующий признак. Однако полный спектр сем не может быть точно определен, так как основным источником исследования функциональных качеств у данных антропонимических единиц является текст документа.
Ономастическая семантика, историческая антропонимия, календарное и некалендарное личное имя, прозвище, сигнификат, денотат, коннотат, мотив именования
Короткий адрес: https://sciup.org/14751088
IDR: 14751088 | УДК: 81'373.2
Текст научной статьи К вопросу о семантике антропонимов (на материале памятников письменности Карелии XV-XVII веков)
Вопрос о лексическом значении (ЛЗ) имени собственного (ИС) до настоящего времени продолжает оставаться наиболее дискуссионным в исследованиях, посвященных системно-структурному изучению языка. Начиная с античности, очень активно в XIX веке, продуктивно в ХХ и ХХI столетиях, с разной степенью глубины практически в каждой работе, касающейся лексической семантики, затрагивается вопрос о наличии или отсутствии значения у имени собственного, что подтверждает теоретическую значимость данной проблемы. «Мнений остается столько же, сколько спорщиков» [12: 59], хотя в полемике о ЛЗ ИС уже стало хрестоматийным сведение наиболее известных точек зрения к трем основным: 1) ИС не имеет значения, это этикетка, ярлык, который, по словам Дж. Ст. Милля, приклеивается однородным предметам [10]. 2) У О. Есперсена отмечено, что ИС имеет значение только в речи [7]. 3) После работ Л. В. Щербы [14], Е. Куриловича [8] разрабатывается позиция: ИС имеет значение и в языке, и в речи, но иного рода, нежели у имени нарицательного.
Расхождение мнений, по словам В. Д. Бонда-летова, обусловлено сложностью и «многолико-стью» имен собственных [3: 22] или, как справедливо замечает М. Э. Рут, стремлением решить данный вопрос для всех онома сразу [12: 59]. Размышления М. Э. Рут о семантике отдельной группы проприальной единицы – антропонимов, бытующих в современном социуме, стали толчком и послужили базой для характеристики компонентов ЛЗ на примере именований, зафиксированных в памятниках письменности Карелии донацио-нального периода. Материалы такого рода не были
представлены для целей подобного исследования. Сохраняется та же схема рассмотрения особенностей ЛЗ ИС: сигнификат – денотат – коннотат.
Сначала о сигнификате. Согласимся с исследователями, которые, говоря о понятийной стороне ИС, подводят единичный объект под некоторый класс объектов так, что «по форме отражения и те и другие понятия представляют собой обобщения» [5: 90–91]. Ср. также тезис И. А. Арнольд и Л. Г. Шеремет: «Это чрезвычайно общее понятие всегда присутствует в семантике указанных антропонимов и является фактом языка, а не речи… Причем бинарность языкового (общего) и речевого (частного) в антропонимах предельно противопоставлена: имя вбирает в себя самое общее и самое индивидуальное» [1: 14–15]. Данная идея, обозначенная также в других работах, в какой-то степени является универсальной для любого разряда онимов любой эпохи, то есть и для антропонимов, представленных в источниках любой временной отнесенности , поскольку у них тоже «отсутствует ярко выраженный сигнификат» [12: 60].
Что касается денотата и коннотата, то говорить о данных компонентах в структуре ЛЗ антропонима, отмеченного в письменных источниках, следует уже с учетом разграничения антропонимических единиц на календарное личное имя, некалендарное личное имя, прозвище1 и т. д. и, возможно, всей структуры именования в целом, поскольку при выделении денотативного и коннотативного компонентов у данных разрядов антропонимов есть общие и специфические семы.
Прежде чем перейти к анализу особенностей денотативного и коннотативного компонентов, отметим, что нами принимается положение о том, что социум – основной источник сведений об особенностях функционирования именований; именно через социум особым образом проявляются такие компоненты ЛЗ, как денотат и коннотат (см. [12]). Однако этот тезис корректен для современного ономастикона, когда объективное существование отсоциумных (= речевых) сем устанавливается применительно к конкретному именуемому. Что касается именований, функционировавших в ономастиконе XV–XVII веков, то мы имеем дело с единицами, актуализированными в тексте памятника. Именно его следует считать опосредованным представителем речи. Эта опосредованность является условной, поскольку письменный текст делового документа не дает полной информации о функционировании имени в социуме, и именно поэтому из текста памятника извлекается все, что может иметь отношение к именуемому лицу.
Рассмотрим денотативные и коннотативные компоненты календарного личного имени. В иллюстрации: « Дер. Цилополе: в ней Тимошка , сеет ржи 2 коробьи, сена косит 10 копен; обжа; доходу 2 белки, ключнику община », Шуньгский погост, 1496 (ПКОП: 2)2, – выделено модифицированное личное имя из русифицированного ономастикона. Анализ записи позволил определить следующую информацию, связанную с денотатом имени Тимошка . Это социальный статус именуемого, принадлежность к определенному месту жительства (в виде расширяющейся географии), указание на собственность, с которой берется налог. Таким образом, вычленяются семы ‘крестьянин’, ‘житель деревни Цилополе Шуньгского погоста в Обо-нежье’, ‘имеющий определенный доход’. Таким образом, чем больше информации об именуемом находим в тексте, тем большее количество денотативных признаков можно вычленить. Так, помимо уже выявленных сем, через текст могут быть определены различные семейные взаимоотношения: дер. Головино: в ней Тараско Головин да брат его Кошута , 1496 (ПКОП: 21): к сфере денотата имени Тараско следует добавить ‘сын человека по прозвищу Голова’, ‘брат Кошуты’; сфера деятельности, например, ‘овчинник’ исходя из записи: дер. Ваглоба на Шунье озерке: в ней Гридка овчинник (ПКОП: 6) и проч. Итак, набор определенных денотативных признаков зависит от представления лица в памятнике писцом или от того, насколько часто человек фиксировался в документах. Так, крестьянин Гриша Сухонос , житель Выгозерского погоста, 1563 (ПКОП: 160) зафиксирован не только в писцовой книге, но и в отводной 1556 года как Гриша Офонасов сын Сухонос (АСМ: 130). Без фиксации 1556 года невозможно было вычленить семы ‘сын Офонасия’ и т. д.
При этом, помимо текстовых сем, важно помнить, что денотат антропонима (как и любого ИС) соотносится с мотивом именования. Поскольку ИС является вторичным по отношению к имени нарицательному (ИН), то, безусловно, при анализе антропонимической единицы возникают вопросы: 1) В какой мере ЛЗ ИС связано с ЛЗ ИН? 2) Чем обусловлена эта связь? 3) Можно ли в структуре значения ИС выделить те же компоненты, что и у соответствующего ему имени нарицательного? 4) Какова роль этих компонентов?
Вернемся к имени Тимошка , которое, как и прочие церковные имена, этимологически соотносилось с иноязычным ИН, оставшимся за чертой словарного состава русского языка дона-ционального периода: заимствовалось и адаптировалось в системе языка имя, а не апеллятив. Таким образом, несмотря на публикации этимологий церковных имен (например, в известных сочинениях М. Грека, Л. Зизания, П. Берынды), связь со значением соответствующего апеллятива была нарушена. Искать и предполагать компонент у имени Тимофей , мотивированный внутренней формой греческих слов time ‘честь, почет’ и theos ‘бог’ [11: 266], вряд ли стоит. Наиболее вероятный мотив именования отражал введение человека в круг христиан, оставляя этимологию внутренней формы в стороне3. Поэтому о календарных именах следует говорить как о вторичных номинациях, потерявших связь с мотивирующим апеллятивом еще до момента наречения.
Следовательно, денотат календарного личного имени имеет только текстовую нагрузку, и чем больше сведений, применимых к лицу, в документе, тем более содержательным становится денотат.
Что касается коннотативного компонента, который можно выделить в структуре ЛЗ календарного имени типа Тимошка , то однозначно можно отметить только одно: он есть, но его конкретное наполнение остается под вопросом, так как нельзя, как, например, в современном социуме, провести наблюдение за функционированием календарного личного имени. Для его точного обозначения отсутствуют основные условия: 1) возможность сравнения с исходной формой и 2) учет характерных черт жизни имени в средневековом обществе. Так, исходной формой (точкой отсчета, нормой) в современной антропонимической системе является официальное имя ( Тимофей ), все остальные формы по отношению к нему будут маркированы различными коннотациями: уменьшительное, ласкательное, грубое, просторечное и проч. Такие параметры для календарного антропонима, отмеченного в памятниках письменности, остаются предположительными. Мы не знаем, сталкиваясь иногда с единственной фиксацией имени в тексте документа, всего спектра возможных номинаций конкретного лица. Мы не знаем, имело ли именование в социуме определенную оценку и какую эмоцию оно вызывало. Так, в памятниках письменности Карелии XV–XVII веков, помимо самого частого модификата Тимошка (319 раз), фиксируются и другие: Тимоха (56), Тимофейко(а) (11), Тимон-ка , Тимоня , Тимош(а) (по 1) при официальном Тимофей (10). Налицо многообразие форм, но использовались ли они при номинации конкретного Тимофея, жившего в Обонежье, неизвестно.
Возможно, осознавалась разница между модифи-катом и официальным (каноническим) именем, поскольку от официального Тимофей чаще образовывались патронимы ( Тимофеев – 29) и ойко-нимы ( Тимофеевская /- ое /- ой – 29). Приведенная статистика подтверждает вывод исследователей, что модифицированные формы с суффиксами субъективной оценки передавали такие оттенки значения (= коннотат), как смирение, униженность и пренебрежение, реже имели уменьшительное или уменьшительно-ласкательное значение [4: 139]. Однако это утверждение верно только для текста памятника, в котором отражено взаимоотношение сословий. А какой оттенок значения был преобладающим при общении лиц, равных по статусу, или в семье при общении старший ~ младший, установить уже невозможно.
С коннотатом связана и оценка имени с точки зрения пристрастия, «ономастического вкуса»: «модные» имена, несмотря на диктат церкви, были во всех регионах Руси, иначе как объяснить существование тезоименности, например в пределах малого социума: дер. Тайнинское: в ней три Ивашки , 1496 (ПКОП: 2) или см. количественные показатели по имени Тимошка . Как следствие, предположение о возможной оценке имени как красивого и о дополнительной семе, которую необходимо включить в круг денотативных сем, – ‘имя в честь кого-то’.
Перейдем к особенностям проявления компонентов ЛЗ ИС на примере некалендарных личных имен (НЛИ) и прозвищ. Сигнификат, а также комплекс уже выделенных и описанных сем, входящих в денотативный компонент, у данных антропонимических единиц совпадают с теми, которые обозначены у календарных именований. Отличия касаются денотативного и коннотативного компонентов, обусловленных особым проявлением мотивировочного признака, его явной, прозрачной связью с ЛЗ апеллятива. Ср. Ждан 5 – ‘тот, рождения которого ждали’ , Толстоног – ‘тот, у кого толстые ноги’ и под. Не случайно НЛИ и прозвища можно объединить в семантические группы.
Так, НЛИ по семантике основы входят в следующие группы: 1) именование ребенка по порядку рождения (Первой, Второй… Поздей); 2) именование ребенка по времени рождения (Зимко, Подосенко); 3) именования, указывающие на отношение родителей к факту рождения (Бажен, Ждан, Неждан, Нечай); 4) именования, характеризующие внешний вид новорожденного (Беляйко, Кроха, Некрас, Ушачко, Худячко) или 5) определяющие черты характера, поведения, ярко выраженные с детства (Безсонко, Будаец, Гневашко, Томилко, Истомка). Названия групп в данном случае совпадают с характеризующим денотатом как гипероним, а конкретные соотнесения с именуемым становятся гипонимическими компонентами. Например, за именем Бес-сонко стоят такие семы: ‘особенности поведения’ и ‘тот, кто плохо спал’. Первая денотативная сема объединяет имя Бессонко с такими именами, как Вязга, Гневашко и проч., где также есть сема ‘поведение’, а последняя – дифференциальная – «собственность, принадлежность» некалендарного имени Бессонко.
Количество семантических групп у прозвищ также можно свести к обобщающему списку, отражающему связь с денотатом на уровне гиперонима и гипонима, а именно: 1) к названиям лиц по месту жительства ( Белозер , Двинянин , Москвитин , Толвуянин ); 2) к названиям лиц по этнической принадлежности ( Корелянин , Лопин , Чудин ); 3) к названиям лиц по профессии, роду деятельности ( Бирич , Винокур, Кузнец , Сапожник); 4) к названиям лиц по морально-этическим качествам ( Ба-зыка , Висленя , Деряга , Заляка , Рогоза , Самодур ); 5) к названиям лиц по физическим особенностям ( Белоус, Бибик , Кривоногой , Пуляко, Шадра ). Ср. семы прозвища Самодур : интегрирующую – ‘качество характера человека’ и различительную – ‘глупый, самоуверенный человек’, последняя сема установлена на основе сопоставления антропонима с лексическим значением мотивирующего апеллятива самодур – ‘то же’.
Если связывать проявление денотативного компонента с социумом, то у НЛИ точкой возникновения таких сем является характеристика ребенка в семье, так как НЛИ давалось при рождении. Прозвище рождается в обществе, выходящем за пределы семьи, поскольку внутренняя форма прозвищ соотносится с апеллятивами, содержащими характерные особенности взрослого человека.
К данным денотативным компонентам следует добавить близкие потенциальные семы. Предполагаем, что и у НЛИ, и у прозвища мотив именования отличала диффузность. Так, у некалендарного имени внутренняя форма контаминировалась с охранным и пожелательным мотивом, а у прозвищ – с профилактическим, иначе трудно объяснить, как могли существовать в системе именований единицы с явно отрицательной внутренней семантикой (типа Окул Сальное Рыло, Василий Борисов сын Рогатых Вшей), почему человек самономинировался таким именем. Ср. записи в актах Соловецкого монастыря: Се яз, Семен Ондреев сын Худокуй, 1520, купчая (АСМ: 35), Се яз, Фома Угрим Иванов сын, 1530/31, мировая (АСМ: 43), Се яз, Тимофей Левонтеев сын Бушуй, 1540/41, купчая (АСМ: 53) и проч. Поэтому такие семы, как ‘охрана’, ‘пожелание’ или ‘профилактика’, также надо иметь в виду. Однако, что доминировало при номинации, какой компонент становился преобладающим – это темное пятно в определении наполнения семантики у этих видов антропонимов. Бесспорно: именование появлялось в речи тогда, когда одна из характеристик лица (например, торопливость, нетерпеливость) становилась наиболее яркой, заметной и относительно постоянной. Ср. прозвище Северга и апел-лятив северга, зафиксированный в псковских говорах в значении ‘торопыга, нетерпеливый’ [6, Т. 4: 169]. Акт наречения в данном случае следует рассматривать «как естественный языковой процесс, обладающий способностью отражать свойства обозначаемых явлений» [5: 89]. Таким образом, возникновение подобных прозвищ было предопределено, так как субъект идеально соответствовал содержанию, заключенному в ЛЗ апел-лятива, что еще раз подтверждает тезис: такие именования сохранили яркую характеристику лица, свойственную ИН. Ср. с высказыванием П. Ф. Строссона: «У слов, – естественно и регулярно употребляющихся для единичной референции, дескриптивная сила отражает наиболее для нас важные, заметные, относительно постоянные и прагматические характеристики предметов» [13: 80].
Итак, у некалендарных личных имен и прозвищ денотат тесно связан с лексическим значением апеллятива, по крайней мере, в начале номинативного процесса. С забвением мотива наречения исчезают в лексическом значении ИС и мотивирующие семы денотата. В этом случае отапеллятивное прозвище уподобляется календарным именованиям, обрастая новыми текстовыми семами, поскольку «любое самое меткое и полно характеризующее лицо прозвище все же оказывается гораздо беднее своего значения, поскольку многообразие личности
Пятой -+ Пятуня -+ Пятунин
г г г г
г г г ^ Пятуша -+ Пятушка г г ^ Пятута г ^ Пятуха -+ Пятухин ^ Пятка
Докука -+ Докучка
^ Докучай ^ Докучайко
^ Докучаев
Однако, как и в случае с календарными именами, трудно определить особенности функционирования имени и закрепления за одним лицом разных номинаций.
Подведем итоги. Лексическое значение антропонимов, зафиксированных в письменных источниках, представлено теми же компонентами (сигнификат, денотат, коннотат), что и у любого вида онимов. Однако наполнение этих компонентов семным содержанием (кроме сигнификата) следует рассматривать с учетом деления антропоними- шире любого заявленного комплекса его параметров» [12: 62].
Теперь о коннотативных компонентах в структуре ЛЗ НЛИ и прозвищ. У прозвищ, восходящих к экспрессивным названиям лиц, коннотация выстраивается на семантической шкале полярно – ‘положительная оценка’ (+) ↔ ‘отрицательная оценка’ (-) – с перевесом к знаку минус, что имплицитно обусловлено стремлением к идеалу. У прозвищ (типа Ведерник , Двинянин , Мещерин ), не имеющих экспрессива в основе, коннотация, вероятно, нулевая. Хотя потенциальной семой может служить противопоставление ‘свой’ ↔ ‘чужой’ для антропонимов, образованных от катойконимов, этнонимов, а для названий лиц по профессии, роду деятельности в скрытый коннотат следует включить положительную сему – ‘отношение человека к труду’. Однако эти скрытые семы входят в денотат ЛЗ.
У НЛИ коннотации, как и денотат, формировались в семейном социуме, подтверждением являются модификаты, развитая деривация, что и является одним из критериев разграничения НЛИ и прозвищ, ср. словообразовательные гнезда именований, зафиксированных в памятниках письменности Карелии:
Позд- ^ Поздей ^ Поздейко г г ^ Поздеец г ^ Поз(д)няк(а) ^ Поздняков
^ Поздыш ^ Поздышев ческих единиц на календарные, некалендарные личные имена и прозвища. О сформировавшемся денотативном и коннотативном компонентах у этих антропонимов можно судить по информации, сопровождающей именуемое лицо в тексте документа, а у некалендарных личных имен и прозвищ данные компоненты обусловлены еще и лексическим значением мотивирующего апел-лятива. Проявление оценок и эмоциональных оттенков связано также с исследованием различных модификатов.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, № 33.1162.2014/К.
ON SEMANTICS OF ANTHROPONOMY
(CASE STUDY OF KARELIAN WRITTEN MONUMENTS OF THE XV–XVII CENTURIES)
REFERENSES
-
1. Arnol’d I. A., Sheremet L. G. Types of SEM and the structure of the lexical meaning of personal names [Tipy sem i struktura leksicheskogo znacheniya lichnykh imen]. Leksicheskoe znachenie v sisteme yazyka i v tekste: Sb. nauch. trudov . Otv. red. I. V. Sentenberg. Volgograd, VGPI Publ., 1985. P. 8–16.
-
2. B ab a e va L . V. Proper names in Proverbs and sayings [Imena sobstvennye v poslovitsakh i pogovorkakh]. Onomastika Povolzh’ya. 3. Materialy 3-y konferentsii po onomastike Povolzh’ya . Otv. red. R. V. Kuzeev, V. A. Nikonov. Ufa, 1973. P. 402–406.
-
3. Bondaletov V. D. Russkaya onomastika: Ucheb. posobie [Russian onomastics]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1983. 224 p.
-
4. Volkov S. S. Leksika russkikh chelobitnykh XVII veka: Formulyar, traditsionnye etiketnye i stilevye sredstva [The vocabulary of the Russian petitions of the seventeenth century: the Form, the traditional etiquette and stylistic means]. Leningrad, Izd-vo Lenigr. un-ta, 1974. 164 p.
-
5. G o l e v N . D . The “natural” nomination of objects of nature and their own common name [“Estestvennaya” nominatsiya ob’’ektov prirody sobstvennymi i naritsatel’nymi imenami]. Voprosy onomastiki: Sb. statey . Otv. red. A. K. Matveev. Sverdlovsk, 1974. № 8–9. P. 88–97.
-
6. Dal’ V. I. Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka: V 4 t. [Explanatory dictionary of the living Russian language]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1981–1982.
-
7. Espersen O. Filosofiya grammatiki [The philosophy of grammar]. Per. s angl. V. V. Passeka i S. P. Safronovoy; Pod. red. i predisl. prof. B. A. Il’ina. Moscow, Izd-vo inostr. lit., 1958. 404 p.
-
8. Ku r i l o v i c h E . The position of the proper name in the language [Polozhenie imeni sobstvennogo v yazyke]. Ocherki po lingvistike . Moscow, Izd-vo inostr. lit., 1962. P. 251–266.
-
9. Ky u r s hu n o v a I . A . Non-calendar personal names and their cognitive capacities in the regional onomasticon of the medieval era [Nekalendarnye lichnye imena i ikh kognitivnyy potentsial v srednevekovom regional’nom onomastikone]. Vestnik SPbGU . Part 9. 2012. Issue 3. P. 103–108.
-
10. Mill’ Dzh. St. Sistema logiki sillogicheskoy i induktivnoy. Izlozhenie printsipov dokazatel’stva v svyazi s metodami nauchnogo issledovaniya [System syllogisms and inductive logic. Statement of principles of the proof in connection with methods of scientific research]. Izd. 5-e, ispr. i dop. Moscow, LENAND Publ., 2011. 832 p.
-
11. Petrovskiy N. A. Slovar’ russkikh lichnykh imen [Dictionary of Russian personal names]. 6-e izd. Moscow, Russkie slovari, Astrel’ Publ., 2000. 480 p.
-
12. Rut M . E . The anthroponyms: reflections on semantics [Antroponimy: razmyshleniya o semantike]. Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta . Ser. 2: Gumanitarnye nauki. Issue 4. 2001. № 20. P. 59–64.
-
13. S t r o s s o n P. F . About references [O referentsii]. Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. XIII. Logika i lingvistika. (Prob-lemy referentsii). Sost., redaktsiya N. D. Arutyunovoy. Moscow, Raduga Publ., 1982. P. 55–86.
-
14. Shcherba L. V. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’ [Language system and speech activity]. Izd-e 2-e, stereotip-noe. Moscow, Editorial URSS Publ., 2004. 432 p.
Поступила в редакцию 16.08.2016
Список литературы К вопросу о семантике антропонимов (на материале памятников письменности Карелии XV-XVII веков)
- Арнольд И. А., Шеремет Л. Г. Типы сем и структура лексического значения личных имен//Лексическое значение в системе языка и в тексте: Сб. науч. трудов/Отв. ред. И. В. Сентенберг. Волгоград: ВГПИ, 1985. С. 8-16.
- Бабаева Л. В. Имена собственные в пословицах и поговорках//Ономастика Поволжья. 3. Материалы 3-й конференции по ономастике Поволжья/Отв. ред. Р. В. Кузеев, В. А. Никонов. Уфа, 1973. С. 402-406.
- Бондалетов В. Д. Русская ономастика: Учеб. пособие. М.: Просвещение, 1983. 224 с.
- Волков С. С. Лексика русских челобитных XVII века: Формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 164 с.
- Голев Н. Д. «Естественная» номинация объектов природы собственными и нарицательными именами//Вопросы ономастики: Сб. статей/Отв. ред. А. К. Матвеев. Свердловск, 1974. № 8-9. С. 88-97.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1981-1982.
- Есперсен О. Философия грамматики/Пер. с англ. В. В. Пассека и С. П. Сафроновой; Под. ред. и предисл. проф. Б. А. Ильина. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. 404 с.
- Курилович Е. Положение имени собственного в языке//Очерки по лингвистике. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. С. 251-266.
- Кюршунова И. А. Некалендарные личные имена и их когнитивный потенциал в средневековом региональном ономастиконе//Вестник СПбГУ Сер. 9. 2012. Вып. 3. С. 103-108.
- Милль Д ж. С т. Система логики силлогической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования: Пер. с англ. Изд. 5-е, испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2011. 832 с.
- Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. 6-е изд. М.: Русские словари: Астрель, 2000. 480 с.
- Рут М. Э. Антропонимы: размышления о семантике//Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. Вып. 4. 2001. № 20. С. 59-64.
- Строссон П. Ф. О референции//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика. (Проблемы референции)/Сост., редакция Н. Д. Арутюновой. М.: Радуга, 1982. С. 55-86.
- Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, стереотип. М.: Едиториал УРСС, 2004. 432 с.