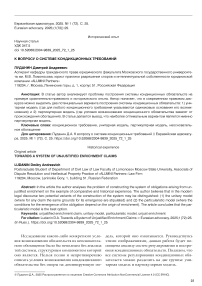К вопросу о системе кондикционных требований
Автор: Луданин Д.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует проблему построения системы кондикционных обязательств на примере сравнительно-правового и исторического опыта. Автор полагает, что в современном правовом дискурсе можно выделить два потенциальных варианта построения системы кондикционных обязательств: 1) унитарная модель (где для любого кондикционного требования указываются одинаковые основания его возникновения) и 2) партикулярная модель (где условия возникновения кондикционного обязательства зависят от происхождения обогащения). В статье делается вывод, что наиболее оптимальным вариантом является именно партикулярная модель.
Кондикционное требование, унитарная модель, партикулярная модель, неосновательное обогащение
Короткий адрес: https://sciup.org/140310547
IDR: 140310547 | УДК: 347.5 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_25
Текст научной статьи К вопросу о системе кондикционных требований
Унитарная модель кондикционных обязательств
Основная идея унитарной модели заключается в том, что существует одно общее кондикцион-ное обязательство, которое не делится на какие-либо виды и которое подходит для разрешения абсолютно любой ситуации, связанной с возвратом неосновательного обогащения. Для такой модели характерно выделение общих и единых условий возникновения кондикционного обязательства вне зависимости от конкретной ситуации, в результате которой образовалось неосновательное обогащение.
Переходя к анализу данной модели, необходимо указать исторический контекст развития регулирования кондикционных обязательств. Как известно, римские источники знали множество различных исков, которые были направлены на возврат неосновательного обогащения [16]. Так, выделяли condictio indebiti (возврат недолжно уплаченного), condictio ex causa furtiva (возврат украденной вещи), condictio causa data causa non secuta (возврат переданного по неисполнимому договору), condictio ob turpem (vel iniustam) causam (возврат предоставления, совершенного в противоречии с добрыми нравами). Утверждается, что каждая из этих кондикций имела самостоятельное регулирование [16].
При этом интересно отметить, что наравне с фрагментами, где казусы решаются с помощью конкретных составов кондикций, существовали отдельные фрагменты, которые, по сути, уже закладывали основу для унитарной модели кондик-ционного обязательства. В частности, известно изречение Помпония: согласно закону природы справедливо, чтобы никто не становился богаче в ущерб другому [16].
Тем не менее, по мнению ученых, данное изречение, основанное на более общем подходе к разрешению споров о неосновательном обогащении в римском праве, не являлось нормой непосредственного применения. Так, Р. Циммерманн указывает, что предложенная Помпонием норма является чрезмерно широкой по объему и без какой-либо конкретизации способна подорвать устойчивость оборота, поскольку фактически каждый предприниматель в конечном счете намеревается обогатиться за счет своих конкурентов [14].
Поскольку предметом данной работы является именно понятие системы кондикционного требования, то было бы неправильным утверждать, что указанные кондикции в действительности ее образовывали. Скорее, это были многочисленные 26
случаи, связанные по внешним признакам, но независимые друг от друга, которые направлены на решение похожих ситуаций [5].
Такая ситуация не могла не привлечь внимание ученых, которые искали более понятные пути объяснения и систематизации многочисленных случаев неосновательного обогащения. Таким объяснением являлась унитарная модель.
Четкое оформление унитарная модель получила в трудах Ф.К. фон Савиньи. В своей работе автор указывал, что функция кондикции заключается в фактической замене виндикационного притязания, которое предъявляется против владельца [19]. Для целей построения унитарной концепции автор проводит последовательный анализ различных случаев кондикций, известных римскому праву. Так, он указывает, что все известные кондикции можно разделить на четыре группы:
-
1) собственник посредством доверенной собственности увеличивает имущество получателя;
-
2) случаи, когда получателю доверяют только владение, но он своими самовольными действиями добивается увеличения своего имущества;
-
3) случаи, когда увеличение имущества получателя произошло по воле собственника, но в результате ошибки;
-
4) случайное обогащение [19].
К указанным группам Ф.К. фон Савиньи также добавлял случаи неосновательного обогащения, которое возникло в результате действий приобретателя [21].
Таким образом, объединяя случаи обогащения в результате действий потерпевшего и случаи обогащения, возникающего в результате действий приобретателя, ученый делал вывод о том, что право неосновательного обогащения является, по сути, самостоятельной областью гражданского права, а не собирательным термином для отдельных квази-контрактов [19]. Такой вывод стал возможен в связи с тем, что все указанные виды обогащения можно объединить одной формулой: увеличение одного имущества вследствие уменьшения другого, которое всегда было либо необоснованным, либо утрачивало свое изначальное основание.
Как известно, при разработке ГГУ было принято решение закрепить общую формулу, разработанную Ф.К. фон Савиньи [6]. При обсуждении модели кондикционного требования, делая вывод в пользу унитарной модели, составители руководствовались тем, что такое регулирование является более понятным, в большей степени соответствует принципам юридической техники, а также отвечает требованиям систематики, когда общий принцип, из которого исходят более частные правила, помещается в самом начале изложения [9].
Среди основных аргументов представителей унитарной модели в пользу необходимости ее восприятия можно выделить следующие доводы.
Во-первых, кондикционные обязательства в целом направлены на разрешение одной и той же проблемы – устранение неэквивалентности, которая образовалась между сторонами по тем или иным причинам. Иными словами, все указанные случаи неосновательного обогащения функционально связаны между собой, в связи с чем было бы логично предусмотреть для них единое регулирование [2]. Как указывал Й. Эссер, иск из обогащения – механизм контроля объективного права за тем, соответствует ли перемещению блага достойное защиты основание такого перемещения [17, ч. 1, с. 246–288]. Действительно, как в случае condictio indebiti, так и в случае обогащения, вызванного действиями приобретателя, конечный результат заключается в том, что потерпевший лишается определенного имущества, а приобретатель, наоборот, получает такое имущество. Соответственно, в двух указанных случаях, приведенных для примера, результат будет одинаковым: одно лицо обогащается за счет другого без правового основания. Получается, что если результат является одинаковым, то кондикцион-ное обязательство, направленное на устранение такого результата, реализуется одинаково.
Иными словами, общий кондикционный иск в силу генерального характера распространяет сферу своего применения на все ситуации, которые соответствуют указанному выше результату. По этой причине исключена ситуация, когда исчерпывающее количество видов кондикции не покрывает какую-либо ситуацию обогащения [4, с. 389–393].
Во-вторых, тождественность результата для всех видов кондикции приводит к тому, что условия такого требования должны быть идентичными для всех случаев обогащения.
Например, в учебнике Л. Энекцеруса указывалось, что кондикционное обязательство является единым, в связи с чем должны быть сформулированы общие условия его возникновения. Среди таких условий автор выделял 1) обогащение, 2) которое происходит неосновательно 3) за чужой счет [3]. Такой точки зрения придерживался также Б. Матиас [7].
Таким образом, по сравнению с римскими кондикциями унитарная модель постулирует общие условия возникновения обязательства для всех фактических ситуаций. Такой подход позволяет унифицировать и объединить все ситуации, которые подпадают под сферу действия кондик-ционного требования, что устраняет противоречивость.
Другим аргументом в пользу унитарной концепции является идея о том, что, с точки зрения систематики и юридической техники, унитарная модель позволяет с меньшими затратами изложить законодательный материал. В частности, утверждается, что такой подход позволяет более гармонично организовать учение о неосновательном обогащении без его деления на множество различных субинститутов [10].
В итоге можно заметить, что унитарная концепция является одним из способов построения системы кондикционных обязательств, среди основных достоинств которой можно выделить следующие аспекты:
-
– все возможные случаи возврата неосновательного обогащения покрываются одной единственной концепцией кондикционного обязательства, что сокращает сам порядок применения нормы: нет необходимости сперва определять, какой вид кондикции должен регулировать конкретную жизненную ситуацию, а затем применять нормы данного вида кондикции к фактическим обстоятельствам. Соответственно, двухстадийный процесс заменяется простым одностадийным механизмом;
– нет необходимости формулировать отдельные правила для разных видов кондикций или условия их возникновения. Наоборот, при унитарном подходе все регулирование является единым и унифицированным.
Стоит еще раз подчеркнуть, что унитарная модель была во многом ответом на разрозненные вариации римских кондикций и попыткой систематизировать римское учение, изложив его более подходящим для исследования и правоприменения образом. С этой точки зрения унитарная концепция создала определенную структуру, которая привела различные кондикции к одному общему знаменателю.
Партикулярная модель кондикционных обязательств
В противовес унитарной модели в 30-х годах ХХ века в Германии активно начала развиваться теория разделения кондикционного обязательства. Основной аспект данной теории заключается в отказе от единого и универсального для всех ситуаций понятия кондикционного обязательства [13]. Согласно данному подходу такое обязательство является собирательным термином для двух больших групп: «кондикция из предоставления» (Leistungskondiktion) и «кондикция иным образом» (Nichtleistungskondiktion). Каждый из данных видов имеет особенные условия возникновения и структурные элементы [17, ч. 2, с. 274– 298].
Эта теория является отражением партикулярной модели кондикционного обязательства и самым ярким ее примером, распространяя свое влияние не только в немецком правопорядке, но и за его пределами (например, в некоторых работах, посвященных праву ЮАР [12]). В связи с этим необходимо более подробно остановиться на ее основных аспектах.
Кондикция из предоставления применяется к тем случаям, когда потерпевший своими действиями вызывает обогащение приобретателя (например, путем платежа по ошибке или в связи с отпадением causa обязательства впоследствии или несуществующего долга), при этом такое предоставление изначально осуществляется с определенной целью, которая впоследствии оказывается недостигнутой. Как указывал В. Вильбург, а затем Э. фон Каммерер, притязание о возврате предоставленного вследствие порока или отпадения каузы предоставления лежит в той же плоскости, что и иные обязательственно-правовые притязания из займа, ссуды, аренды, хранения, из отказа от договора и расторжения договора [17]. При этом немецкая юриспруденция исходит из нескольких базовых правил, регулирующих кондикцию из предоставления: 1) принцип субсидиарности (согласно которому кондикция из предоставления имеет приоритет над кондикци-ей иным образом), и 2) принцип целенаправленности (согласно которому под предоставлением (Leistung) понимается сознательное и целенаправленное увеличение чужого имущества) [20]. Именно согласно второму принципу и определяется условие «без правового основания» для кондикции из предоставления: неосновательным обогащение становится тогда, когда предоставление не достигает закрепленной за ним цели.
В связи с этим можно заключить, что правила кондикции из предоставления исходят из необходимости определения неосновательности через правовой материал, содержащийся в нормах о сделках и договорах. Если обязательство не достигает своего результата согласно соответствующим законодательным положениям, посвященным тем или иным обязательственным конструкциям, то в таком случае возникает кондикционное обязательство. Так, Верховный Суд РФ неоднократно подтверждал (например, в делах № А40- 28
242372/2022, № А56-89525/2022), что кондикци-онное обязательство возникает при взимании банком дополнительных (повышенных) сумм комиссии (например, за совершение платежа, за ведение ссудного счета), поскольку такие комиссии не могут быть отнесены к плате за самостоятельную услугу, предоставляемую банком своему клиенту.
По сути, при таком понимании кондикция из предоставления является бланкетной нормой, которая в вопросе определения условия «без правового основания» отсылает к более специальным (, соответственно, более подходящим) нормам.
Вторым видом в указанной типологии является кондикция иным образом, которая направлена на разрешение таких ситуаций, где обогащение получено активными действиями самого приобретателя, то есть это ситуации, когда приобретатель с помощью своих действий обогащается из «имущества» (или лучше сказать – из блага) потерпевшего [17, ч. 1, с. 246–288].
Такое решение обусловлено господствующей в настоящий момент концепцией в рамках кондикции из вмешательства – концепция прикрепленного содержания субъективного права (Zuweisungsgehalt). В самом общем виде суть этой теории заключается в том, что каждое субъективное право закрепляет за его обладателем определённое благо (например, потребить, использовать, уничтожить вещь). Когда происходит обогащение из вмешательства, то ненадлежащее лицо осуществляет определенные манипуляции с прикрепленным к праву благом, которое, согласно теории Zuweisungsgehalt, принадлежит управомоченному лицу [17, ч. 1, с. 246–288].
Другими словами, концепция прикрепленного содержания субъективного права позволяет определить для случаев кондикции иным образом, когда обогащение является неосновательным (в противовес понятию цели, которое используется в рамках кондикции из предоставления,), то есть опосредует условие «без правового основания»: обогащение является неосновательным в случае нарушения распределения благ, закрепленных за определенным лицом субъективным правом.
Кондикция иным образом подразделяется на следующие виды: обогащение из вмешательства, обогащение в результате уплаты чужого долга (Rückgriffskondiktion), обогащение в форме расходов на чужое имущество (Verwendungskondik-tion) [8].
При этом партикулярная модель имеет определенные преимущества в сравнении с унитарной моделью построения системы кондикционных обязательств.
Во-первых, унитарная модель, воплощая формулу Ф.К. фон Савиньи и устанавливая общую норму для всех кондикционных обязательств, фактически расширяет сферу права неосновательного обогащения до практически безграничных пределов. Это происходит в связи с тем, что основные условия возникновения кондикцион-ного обязательства в рамках данной модели становятся расплывчатыми (в особенности такие условия, как «без правового основания» и «за счет потерпевшего») [15].
Для иллюстрации следует привести следующий пример. Собственник квартиры на первом этаже с помощью специального оборудования, установленного поставщиком коммунальных услуг, обогревает свою квартиру. Однако оборудование работает очень активно и обогревает не только квартиру собственника, но и одновременно квартиру соседей, расположенную на втором этаже. Может ли собственник квартиры предъявить требование о возврате неосновательного обогащения в форме платы за обогрев квартиры к соседям, проживающим на втором этаже?
Унитарная модель за счет своей генеральности в принципе могла бы допустить удовлетворение такого требования, поскольку у соседей имеется определенное благо, оно получено без правового основания (отсутствует какое-либо соглашение с собственником или норма права, санкционирующая такое обогащение), а также обогащение происходит за счет собственника квартиры на первом этаже (именно его оборудование расходует энергию, которой бесплатно пользуются соседи). Несмотря на формальное наличие указанных факторов, большая часть доктрины уверенно отвергает возможность удовлетворения кондикционного требования в данном случае [1].
Из указанного примера следует, что, хотя унитарная концепция, подразумевающая существование общего принципа запрета неосновательного обогащения, имеет свойство генераль-ности, она, тем не менее, не обладает свойством универсальности [4].
Партикулярная модель, наоборот, позволяет более четко определить сферу действия кондик-ционных обязательств и, что важно, предоставляет механизм установления управомоченного и обязанного лица. В ином случае, используя выражение Э. Шраге, можно было бы сказать, что унитарная модель открывает шлюзы плотины настолько, что вплеснувшаяся вода может вызвать наводнение [11].
Во-вторых, как видно из анализа выделенных выше типов кондикций, их структура существенно различается. В целом, ситуации, когда неосновательное обогащение происходит в результате действий самого потерпевшего, отличаются от ситуаций, когда обогащение является результатом действий приобретателя. Например, касательно предмета кондикционного требования Э. фон Каммерер отмечает следующее различие. Предметом кондикционного требования, возникшего в результате действий самого потерпевшего (кондикция из предоставления), являются любые блага, которые могут служить предметом предоставления по соглашению (например, место в залоговой или наследственной очередях). Однако эти блага не могут быть предметом кондикцион-ного требования, возникшего в результате действий приобретателя (кондикция иным образом), поскольку не может идти речь об абсолютной защите данных благ в силу невозможности установления исключительной управомоченности какого-либо лица в отношении места в очереди. В связи с этим существует объективная необходимость разграничения правового режима с учетом указанных различий [17, ч. 1, с. 274–298].
В-третьих, представляется, что партикулярная теория также отвечает одному из фундаментальных принципов права, который заключается в том, что похожие ситуации должны разрешаться аналогично (treat like cases alike). В связи с тем, что в рамках унитарных моделей все фактические ситуации возникновения неосновательного обогащения «вписаны» в один шаблон, невозможно учесть их специфику. Наоборот, партикулярная концепция позволяет учесть специфику ситуаций и впоследствии аналогичным образом их разрешать.
Можно привести пример Дж. Гордли, который достаточно показательно иллюстрирует необходимость дифференциации в праве неосновательного обогащения. Представим, что есть несколько ситуаций, в каждой из которых лицо осуществляет одно и то же действие – рубит дерево.
Ситуация 1. Лицо А рубит дерево, чтобы продать земельный участок, на котором оно расположено. Однако земельный участок принадлежит лицу Б, о чем лицо А не знает. При этом лицо Б намеревалось нанять рабочих, чтобы вырубить дерево и продать свой земельный участок.
Ситуация 2. Для цели выполнения физических упражнений с топором лицо А рубит дерево, которое находится на земельном участке лица Б, о чем лицу А неизвестно. Лицо Б, как и в предыдущем примере, намеревалось продать участок.
Ситуация 3. Лицо А рубит дерево как исполнитель по договору подряда с лицом Б. Впоследствии лицо А узнает, что договор является недействительным [4, с. 395–398].
Несмотря на то, что во всех трех ситуациях лицо А выполняет одну и ту же активность, право допускает предъявление требований к лицу Б только в ситуациях 1 и 3. Ситуация 2 является одним из примеров рефлективного действия права подобно примеру с отоплением квартиры, который был указан выше [4, с. 389–393].
В-четвертых, как отмечал Л.А. Лунц, в вопросе о неосновательном обогащении коллизионная доктрина, а также практика разных стран обнаруживают колебания и склоняются к дифференцированным критериям [18].
Разграничение указанных случаев в материально-правовом смысле (кондикция из предоставления больше примыкает к договорам, а кондикция из вмешательства – к деликтам) предполагает также необходимость партикулярного регулирования на коллизионном уровне.
Такое партикулярное регулирование предполагает для случаев кондикции из предоставления привязку к основному правоотношению (например, право, которому был подчинен прекращенный / отмененный договор), а для случаев кон-дикции иным образом – привязку к месту самого обогащения (место приобретения или сбережения имущества).
Логика такого подхода заключается в том, что привязка lex causae для случаев кондикции из предоставления гарантирует защиту ожиданий сторон основного обязательства, в частности ранее существовавшего обязательственного правоотношения. Но когда ранее существовавшее правоотношение отсутствует, может быть использована привязка места возникновения обогащения [15].
Интересно, что доктринальные изыскания позднее были воплощены в тексте ст. 38 Вводного закона к ГГУ (Einführungsgesetz BGB), где для случаев обогащения, результатом которого стали действия потерпевшего, вводится привязка к праву страны, регулирующей вопрос исполнения обязательства потерпевшим, а для случаев обогащения действиями приобретателя – право страны, где произошло посягательство на благо, принадлежащее потерпевшему.
Таким образом, можно заметить, что партикулярная модель является популярным среди ученых подходом к организации системы кондикционного обязательства. Ее основные достоинства следуют из недостатков унитарной концепции и восполняют их. Несмотря на до- стоинства партикулярного подхода, необходимо обратить внимание, что он имеет определенные недостатки.
Проблемы могут возникать при квалификации тех или иных фактических ситуаций. В сложных делах суды могут испытывать трудности относительно того, к какому типу кондикции относится неосновательное обогащение приобретателя. Для пояснения этой проблемы можно привести следующий пример из практики немецких судов – дело безбилетного пассажира (BGHZ 55, 128 = NJW 1971, 609). Обстоятельства названного дела заключались в том, что несовершеннолетний гражданин без ведома авиакомпании пробрался на борт самолета, который направлялся из Гамбурга в Нью-Йорк. При высадке в Нью-Йорке ему было отказано в прохождении таможенного контроля в связи с отсутствием документов. В связи с этим авиакомпания «Люфтганза» была вынуждена доставить пассажира обратно в Германию. По прилете авиакомпания предъявила кондикцион-ное требование к родителям несовершеннолетнего пассажира в связи с тем, что перелет осуществлялся бесплатно за счет авиакомпании. В данном деле, среди прочего, перед судом встал вопрос квалификации вида кондикции.
С одной стороны, авиакомпания осуществила в пользу несовершеннолетнего предоставление в виде услуги по перелету, что предполагает наличие кондикции из предоставления.
С другой стороны, несовершеннолетний использовал ресурсы авиакомпании, которые принадлежат исключительно ей, а именно право заполнить места в самолете в соответствии с правилами авиакомпании. Такое поведение подпадает под сферу действия кондикции из вмешательства: поскольку несовершеннолетний, заняв место в самолете, «отобрал» у компании благо, которое прикрепляется к содержанию субъективного права авиакомпании. Именно такой подход нашел отражение в решении суда.
Как видно, в данном деле вывод о том, к какому типу необходимо отнести данную фактическую ситуацию (и соответственно, какие правила необходимо применять), являлся неочевидным. Соответственно, можно заключить, что существуют определенные трудности в применении к определенной ситуации соответствующего типа кондикции.
Заключение
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что современная тенденция в сфере кон-дикционных обязательств заключается в дифференциации подходов к их регулированию и, соот- ветственно, в восприятии партикулярной модели построения системы таких обязательств.