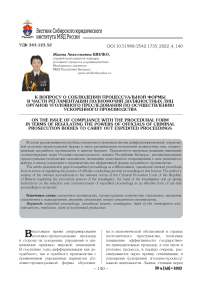К вопросу о соблюдении процессуальной формы в части регламентации полномочий должностных лиц органов уголовного преследования по осуществлению ускоренного производства
Автор: Шилко Жанна Анатольевна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 4 (49), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются пробелы ускоренного производства как дифференцированной, оперативной уголовно-процессуальной формы в части регламентации полномочий должностных лиц, осуществляющих досудебное производство в данном формате. Предлагается авторская редакция изменений соответствующих норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, регламентирующих процессуальные полномочия следователя, начальника следственного подразделения о даче указаний по выбору и началу ускоренного производства как эффективной формы досудебного производства.
Ускоренное производство, процессуальные полномочия, следователь, начальник следственного подразделения, указания, резолюция, начало ускоренного производства
Короткий адрес: https://sciup.org/140296367
IDR: 140296367 | УДК: 343.123.52
Текст научной статьи К вопросу о соблюдении процессуальной формы в части регламентации полномочий должностных лиц органов уголовного преследования по осуществлению ускоренного производства
К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ В ЧАСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УСКОРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ON THE ISSUE OF COMPLIANCE WITH THE PROCEDURAL FORM IN TERMS OF REGULATING THE POWERS OF OFFICIALS OF CRIMINAL PROSECUTION BODIES TO CARRY OUT EXPEDITED PROCEEDINGS
Внастоящее время реформирование уголовно-процессуальных процедур в сторону их ускорения, упрощения и удешевления признано мировой тенденцией. В последние годы дифференциация как досудебного, так и судебного производства с применением упрощенных вариантов уголовно-процессуальной формы обусловле- на и экономической обстановкой в странах постсоветского пространства, поскольку повышение эффективности государственно–принудительных процедур, в том числе и уголовно процесса, в первую очередь, рассматривается через призму оптимизации и упрощения (ускорения) уголовно-процессуальной деятельности. Задача, стоящая перед 140 ~ № 4 (49) • 2022
законодателем, заключается в таком совершенствовании национального уголовно-процессуального законодательства, которое, учитывая опыт правоприменителей и мнение научного сообщества, позволило бы «отразить происшедшие в социально-политической, экономической и правовой жизни государства изменения, чему сегодня в значительной степени препятствует устоявшийся в нашем сознании стереотип незыблемости уголовно-процессуальных институтов, не позволяющих обеспечить эффективность уголовного судопроизводства» [1, с. 763].
Так, анализ отдельных положений института ускоренного производства в Республике Беларусь свидетельствует о необходимости их дальнейшего совершенствования, в частности касаемо регламентации процессуальных полномочий лиц, ведущих уголовный процесс. Несмотря на многочисленные изменения и дополнения, имевшие место на протяжении двух десятилетий действия новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), процессуальные полномочия должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование при ускоренном производстве, так и не были дополнены соответствующими предписаниями о выборе либо о начале данного вида процессуальной формы.
Как известно, после проведенной в Республике Беларусь в 2011-2014 гг. реформы правоохранительных органов под пристальным вниманием оказалась эффективность работы следственных подразделений как нового государственного независимого органа предварительного следствия. Такая заинтересованность объяснялась приоритетностью задач, поставленных государством перед данным ведомством и сформулированных в Законе Республики Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь»1 (далее – Закон о Следственном комитете): всесто- роннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной законодательными актами. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден2.
Как может показаться на первый взгляд, налицо полная корреляция задач уголовного процесса по защите личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства в части быстрого расследования преступлений с задачами, закрепленными в Законе о Следственном комитете. В то же время этимологические значения слов «быстрота» и «оперативность» вовсе не синонимичны. Собирательное значение термина «быстрота» представляет собой всего лишь темп какой-либо деятельности, высокую скорость, стремительность, а вот значение термина «оперативность» заключается в быстродействии, с одной стороны, и в эффективности, действенности, результативности – с другой3. То есть если быстрота расследования оценивается как временнуе средство достижения целей уголовного процесса, то оперативность обязательно должна оцениваться с точки зрения эффективности, под которой необходимо подразумевать проведение расследования уголовных дел в минимально возможные сроки, с затратой минимальных ресурсов (материально-технических, человеческих), при условии соблюдения регламентированной действующим законодательством уголовно-процессуальной формы, и достижение, в конечном итоге, намеченных целей. На это также указывает Н.А. Власова, которая характеризует, в самом общем плане, эффективность уголовного процесса как возможность достижения поставленной цели (совокупности задач) наиболее рациональным способом при неукоснительном соблюдении законности с минимальными затратами времени, человеческой энергии и материальных средств [2, с. 6]. В этой связи представляется, что чем с меньшими затратами труда достигается быстрое и полное исследование обстоятельств совершенных преступлений, изобличение и привлечение виновных к уголовной ответственности, тем эффективнее (рациональнее, результативнее), а следовательно, и оперативнее следует считать уголовное производство. В качестве таковой «оперативной» версии уголовно-процессуальной деятельности в Республике Беларусь предлагается рассматривать ускоренное производство, которое, как представляется, является показательным вариантом дифференциации традиционной уголовно-процессуальной формы и отражает мировые тенденции по ускорению и упрощению досудебного и судебного процесса.
Отдавая должное ускоренному производству в части успешного обеспечения статистических показателей по критерию оперативности работы следственных подразделений республики, выражаем глубокое убеждение, что вопросы соблюдения элементов уголовно-процессуальной формы такой деятельности должны соблюдаться также безукоризненно, как и в случае обычного производства. И в этой связи детальному анализу в данной публикации хотелось бы подвергнуть содержание отдельных элементов процессуальной формы ускоренного производства, а именно в части четкой регламентации процессуального статуса лиц, ведущих уголовный процесс. Ведь именно институт лица, ведущего производство по материалу либо уголовному делу, обеспечивает надлежащую форму уголовного процесса и является одной из основных его категорий.
Для начала обратимся к содержанию понятия уголовно-процессуальной формы. Так, абсолютно вся деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, осуществляемая по материалам и уголовным делам, детально регламентируется уголовно-процессуальным законом, который и устанавливает определенную процессуальную форму для совершения всех действий и принятия решений перечисленными государственными органами и их должностными лицами. Процессуальной формой М.С. Строгович называет совокупность условий, установленных процессуальным законом для совершения органами следствия, прокуратуры и суда тех действий, которыми они осуществляют свои функции в области расследования и разрешения уголовных дел, а также для совершения гражданами, участвующими в производстве по уголовному делу, тех действий, которыми они осуществляют свои права и выполняют свои обязанности [6, с. 51].
И.М. Алексеев под уголовно-процессуальной формой предлагает понимать систему предъявляемых к субъектам уголовного процесса установленных уголовно-процессуальным законом и основанных на его принципах требований, выполнение которых приводит к наиболее точному и рациональному достижению задач уголовного судопроизводства [1, с. 17].
Л.И. Кукреш под процессуальной формой подразумевает установленный законом порядок и условия проведения соответствующих процессуальных действий, их последовательность, процессуальное оформление действий и принимаемых решений; условия, при наличии которых возможно производство процессуальных действий и принятие решений; сроки и другие правила производства по материалам проверки заявлений и сообщений о преступлении, ускоренному производству и уголовным делам [4, c. 9]. Практически полностью поддерживает данное мнение касательно содержательных элементов и М.А. Шостак, который считает, что уголовно-процессуальная форма – это предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок производства по материалам и уголовным делам, который включает в себя последовательность производства процессу- альных действий и принятия решений, основания и условия, при наличии и соблюдении которых возможно производство процессуальных действий и принятие решений, процессуальное оформление действий и принимаемых решений; сроки и другие правила производства по материалам и уголовным делам [7, с. 28].
Суммируя содержание вышеприведенных дефиниций уголовно-процессуальной формы, можно утверждать, что под таким обязательным ее элементом, как «условия, при наличии и соблюдении которых возможно производство процессуальных действий и принятие решений», наряду с иными следует понимать осуществление уголовно-процессуальной деятельности лицом (лицами), специально на то уполномоченным и обладающим исключительной компетенцией по осуществлению такой деятельности. Применительно к ускоренному производству, порядок которого определяется общими правилами УПК, за изъятиями, установленными главой 47, можно с уверенностью утверждать, что таковым лицом является следователь, обладающий для этого закрепленной законом компетенцией. Однако детальный анализ общей нормы, регламентирующей компетенцию следователя, показывает несовершенство отдельных моментов правового регулирования порядка ускоренного производства.
Так, действующая редакция ст. 36 УПК, определяющая полномочия следователя в уголовном процессе, не содержит упоминаний о проведении следователем досудебного производства в виде ускоренного производства. Буквальное толкование ч. 1 ст. 36 УПК свидетельствует о том, что следователь в пределах своей компетенции, предусмотренной УПК, осуществляет только предварительное следствие. Вместе с тем согласно содержанию ст. 454 УПК именно следователь, признав собранные материалы по заявлению или сообщению о преступлении (поступившие, как правило, в орган предварительного следствия из органов дознания) достаточными для возбуждения уголовного дела и направления его в суд, выносит постановление о возбуждении уголовного дела в порядке ускорен- ного производства, принимает его к своему производству, привлекает в качестве обвиняемого лицо, подозреваемое в совершении преступления и не отрицающее его совершения. Кроме этого не следует забывать о ситуациях, при которых проведение проверки по заявлениям и сообщениям о преступлениях, относящимся к категориям менее тяжких и не представляющим большой общественной опасности, может осуществляться в порядке ускоренного производства самим следователем. Выполняя такую проверку и фактически начав ускоренное производство, следователь реализует функцию уголовного преследования. Результатом данной деятельности до возбуждения уголовного дела в порядке ускоренного производства является такая совокупность фактических данных, содержание которой признается достаточной не только для принятия решения о возбуждении уголовного дела, но и имеет значение для рассмотрения дела в судебном заседании или для постановления приговора без судебного разбирательства. В связи с этим, по нашему глубокому убеждению, соответствующие дополнения необходимо внести в ч. 5 ст. 36 УПК, положения которой регламентировали бы право следователя не только возбуждать уголовное дело и проводить предварительное следствие, но и осуществлять ускоренное производство, причем как до возбуждения уголовного дела, так и после принятия такого процессуального решения.
Анализируя соответствующие нормы УПК, регламентирующие полномочия начальника следственного подразделения, следует также признать необходимость их корреляции с соответствующими нормами о процессуальной компетенции следователя. Так, следователь «де-юре» сможет стать уполномоченным должностным лицом, в процессуальную компетенцию которого входит осуществление ускоренного производства, только после получения таких указаний от своего руководителя. Нельзя не учитывать то обстоятельство, что именно благодаря указаниям начальника следственного подразделения следователь индивидуально определяется, а это и является обязательным условием приобретения соответствующего статуса, в том числе способности нести процессуальную ответственность за свои действия и решения. В действующей редакции УПК, согласно п. 2 ч. 2 ст. 35 УПК, такие указания, даваемые начальником следственного подразделения следователю, касаются права поручать производство только предварительного следствия. Примечательно, что единственным субъектом осуществления ускоренного производства на досудебном этапе уголовного процесса с момента возбуждения уголовного дела является следователь, а в полномочиях начальника следственного подразделения в ч. 2 ст. 35 УПК законодателем предусмотрен всего лишь один пункт, касающийся процессуального руководства и контроля за законностью и своевременностью действий следователя при ускоренном производстве: «14) продлевать срок ускоренного производства».
По нашему глубокому убеждению, в связи отсутствием четкого законодательного определения начала ускоренного производства ситуация характеризуется большей степенью зависимости начала процессуальной деятельности следователя от процессуального руководства начальника следственного подразделения, нежели при обычном производстве, то есть при предварительном следствии. В обоснование такого довода хотелось бы обратить внимание на положения ч. 1 ст. 453 УПК, в соответствии с которой срок ускоренного производства исчисляется десятью сутками, начиная со дня поступления в орган предварительного следствия заявления или сообщения о преступлении, и до передачи уголовного дела прокурору для направления в суд. Как упоминалось ранее, в подавляющем большинстве случаев, заявления и сообщения о преступлениях, поступают из органов дознания, которыми уже проведена проверка по правилам ускоренного производства. Следовательно, предварительное изучение таких материалов на предмет наличия достаточности данных, указывающих на признаки преступления и условий, при которых возможно проведение ускоренного производства, осуществляется начальником следственного подразделения либо его заместителем, что объективно подтверждается и в действительности. Так, по сложившейся практике, т.е. «де-факто», такие указания даются следователю при поступлении материалов проверки, уже собранным по правилам ускоренного производства, в виде резолюции начальника или заместителя начальника следственного подразделения о возбуждении уголовного дела в порядке ускоренного производства.
Таким образом, мы убеждаемся в необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства и закрепления возможности реализации процессуальных полномочий начальника следственного подразделения и укрепления его административно-процессуального ресурса относительно ускоренного производства. Только в этом случае будут соблюдены требования такого основополагающего конституционного принципа уголовного процесса как законность, согласно которому, «доказательства, полученные с нарушением порядка, установленного настоящим Кодексом, не имеют юридической силы и не могут являться основанием для привлечения в качестве обвиняемого и постановления приговора»
В продолжение мысли о законности получения доказательств невозможно оставить без внимания такой критерий оценки доказательств, как допустимость. В этой связи выражаем солидарность и поддерживаем мнение И.М. Алексеева, предлагающего рассматривать процессуальную форму в качестве основного элемента допустимости доказательств, поскольку понятия «процессуальная форма» и «допустимость доказательств» – близкие по своей смысловой нагрузке, при условии восприятия установленной законом формы не как набора формальностей, призванных усложнить уголовный процесс, а как гарантии установления истины по делу [1, с. 18]. Следовательно, очевиден вывод об обоснованности возникающих сомнений в законности таких доказательств, поскольку, будучи полученными с несоблюдением процессуальной формы (а в нашем случае не уполномоченными на то должностными лица- ми или, иными словами, ненадлежащим субъектом доказывания), они являются недопустимыми.
По нашему глубокому убеждению, одной из ключевых причин обозначенной проблемы по несовершенству процессуальной регламентации полномочий начальника следственного подразделения и следователя при ускоренном производстве является отсутствие законодательного закрепления момента начала ускоренного производства, что является предметом научной полемики среди отечественных ученых-процессуалистов на протяжении уже продолжительного времени [8]. Однако не стоит упускать из вида и то обстоятельство, что органом дознания уже проведена предварительная проверка, порядок которой урегулирован ст. 452 УПК, а не ч. 2 ст. 173 УПК, что убедительно свидетельствует об осуществлении уголовно-процессуальной деятельности именно в порядке ускоренного производства, то есть фактически оно уже начато, поскольку ускоренное производство не ограничивается рамками процессуальной деятельности, начинающейся с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем «последнее слово» о применении ускоренного производства либо проведении предварительного следствия должно оставаться за следователем. Ведь именно следователем после изучения полученных от органа дознания материалов проверки по заявлению (сообщения) о преступлении и на основе оценки имеющихся фактических данных по своему внутреннему убеждению либо по указанию начальника следственного подразделения принимается решение о возбуждении уголовного дела в порядке ускоренного производства и продолжении данного вида досудебного производства с учетом специфических особенностей его процессуальной формы. Из сложившейся в теоретическом и практическом плане действительности в качестве своеобразного процессуального решения, обозначающего начало ускоренного производства, сейчас приходится рассматривать только указание (резолюцию) начальника следственного подразделения тому или ино- му следователю о проведении ускоренного производства, оформленное, в соответствии с требованиями УПК, письменно.
Резюмируя, представляется возможным сформулировать следующие выводы:
-
1) предложенные выше дополнения в процессуальные полномочия следователя и начальника следственного подразделения являются крайне необходимыми. Такие указания должны иметь место еще и по той причине, что положения УПК об осуществлении ускоренного производства при наличии указанных в ч. 1 ст. 452 УПК условий носят императивный характер и должны применяться вне зависимости от выбора следователя;
-
2) указания начальника следственного подразделения о проведении досудебного производства в форме ускоренного производства как нельзя лучше будут способствовать процессуальному контролю за соответствием процессуальных решений и действий следователя положениям уголовно-процессуального закона при применении данной процессуальной формы;
-
3) полномочия начальника следственного подразделения необходимо дополнить и изложить соответствующие пункты ч. 1 ст. 35 УПК в следующей редакции: п. 2: «поручать производство предварительного следствия, ускоренного производства следователю» и п. 4: «давать указания следователю о производстве предварительного следствия, ускоренного производства, привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, направлении дела, производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, применении мер пресечения, а также о применении мер по обеспечению безопасности»;
-
4) аналогичные изменения и дополнения требуется внести и в полномочия начальника органа дознания, которым поручается проведение проверки по заявлениям и сообщениям о преступлениях. Так, в ч. 4 ст. 38 УПК необходимо закрепить право начальника органа дознания поручать проведение проверки именно в порядке ускоренного производства, а не вообще. Кроме этого последнее предло-
- жение ч. 4 ст. 38 УПК после слов «направляет в органы предварительного следствия заявления или сообщения о преступлениях вместе с материалами проверки по ним при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 174 настоящего Кодекса» необходимо дополнить словами: «в том числе в порядке ускоренного производства»;
-
5) устранение существующих пробелов в процессуальных полномочиях лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-процессуальных отношений при проведении ускоренного производства, не отяготит его процессуальную процедуру в целом, не следует опасаться этого. Действительно, как справедливо отмечает С.Б. Россинский, законодательные тенденции нередко направлены на «гиперформализацию уголовно-процессуального права,
в стремлении «узаконить» (в узком смысле) более широкий круг применяемых в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства правил поведения, чем требует здравый смысл, превращая УПК в некий административный регламент» [5, с. 42]. Вместе с тем и отсутствие таких правил не способствует соблюдению обязательных элементов уголовно-процессуальной формы, принципа законности, в конечном счете и единообразному подходу в правоприменительной сфере.
Сущность ускоренного производства, его процессуальная экономия и эффективность должны достигаться прежде всего рациональным построением самого порядка процессуальной деятельности, в том числе четкой регламентацией процессуальных полномочий лиц, ведущих уголовный процесс.
Список литературы К вопросу о соблюдении процессуальной формы в части регламентации полномочий должностных лиц органов уголовного преследования по осуществлению ускоренного производства
- Алексеев, И.М. К вопросу о дифференциации уголовно-процессуальной формы / И.М. Алексеев // Научный портал МВД России. - 2015. - N 1. - С. 17-20.
- Власова, Н.А. Досудебное и упрощенное производство: время реформ / Н.А. Власова // Юридический консультант. - 2000. - N5. - С. 4-6.
- Гаврилов, Б.Я. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: оценка эффективности и меры по его совершенствованию / Б.Я. Гаврилов // Пенитенциарная наука. - 2021. - Т.15. - N 4 (56). - С. 753-765.
- Кукреш, Л.И. Уголовный процесс. Общая часть: учебное пособие / Л.И. Кукреш. - Минск: Тесей, 2005. - 352 с.
- Россинский, С.Б. УПК Российской Федерации: возрождение "высокого" предназначения уголовно-процессуальной формы или "памятка" для безграмотных правоприменителей / С.Б. Россинский // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2021. - N 6. - С. 42.
- Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. / М.С. Строгович. - М.: Наука, 1968. - Т. I: Основные положения науки советского уголовного процесса. - 470 с.
- Шостак, М.А. Уголовный процесс: учебное пособие / М.А. Шостак. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. - 630 с.
- Шпак, В.В. Процессуальные аспекты принятия решения о начале ускоренного производства / В.В. Шпак // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2004. - N 1. - С. 59-61.