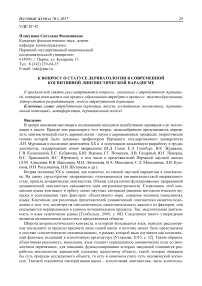К вопросу о статусе дериватологии в современной когнитивной лингвистической парадигме
Автор: Плясунова Светлана Филипповна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В предагаемой статье рассматриваются вопросы, связанные с атрибутивной деривацией, которая понимается как процесс образования атрибута в процессе текстообразования. Автор статьи разрабатывает модель атрибутивной деривации.
Атрибутивная деривация, текст, когнитивная лингвистика, деривационный потенциал, деривационный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/147229745
IDR: 147229745 | УДК: 81''42
Текст научной статьи К вопросу о статусе дериватологии в современной когнитивной лингвистической парадигме
В центре внимания настоящего исследования находится атрибутивная деривация и ее экспликация в тексте. Прежде чем рассмотреть этот вопрос, целесообразным представляется определить лингвистический статус дериватологии - науки о деривационных процессах, теоретические основы которой были заложены профессором Пермского государственного университета Л.Н. Мурзиным в последние десятилетия XX в. и получившие дальнейшую разработку в трудах лингвистов, поддержавших новое направление (Н.Д. Голев, Е Л. Гинзбург, В.К. Журавлев, Г.В. Колшанский, Е С. Кубрякова, БЮ. Норман, Е Е. Почепцов, Л.В. Сахарный, Ю.Г. Панкрац, В С. Храковский, В С. Юрченко), в том числе и представителей Пермской научной школы (Л.М. Алексеева, В.В. Васильева, М.Н. Литвинова, В.А. Мишланов, С.Л. Мишланова, Л.В. Куш-нина, Н.П. Россомагина, Н.В. Шутемова и др.).
Вторая половина XX в. связана, как известно, со сменой научной парадигмы в лингвистике. На смену структурному направлению, отличавшемуся антименталистской направленностью, пришла динамическая лингвистика. Общим для различно фундированных направлений динамической лингвистики оказывается идея антропоцентричности. Сторонники этой концепции языка втягивают в орбиту своих научных интересов решение методологического вопроса о соотношении трех факторов: объективного мира, сознания человека (мышления), языка. Ключевым для различных представителей динамической лингвистики является положение о том, что, несмотря на онтологическую самостоятельность каждого из факторов, они оказываются неразрывными в едином познавательном процессе. Так, мыслительная деятельность и язык генетически едины [Гумбольдт, 2000, с. 68]. Следствием такого утверждения является возникновение целостного представления объекта.
Широта антропологического контекста, в который вписывается язык, выводит рассмотрение последнего за пределы предмета лишь одной науки и поэтому может быть представлено в системе «синтетического человекознания», в рамках которой язык изучается как комплексный феномен, входящий в когнитивную архитектуру [Угланова, 2010, с. 32]. Таким образом, объективная реальность, мышление, язык создают определенное динамическое поле со множеством переменных, для описания, функционирования которых насущной становится разработка методологии, адекватной сложному целостному объекту, такой, которая отражала бы суть природы исследуемого объекта, то есть в конечном счете суть человеческой когни-ции. Таковой становится интегративная наука - когнитивная лингвистика, часть когнитоло- гии. Направление когнитивных исследований является одним из эпизодов общего методологического сдвига, начавшегося в лингвистике в середине XX в., когда появилась возможность рассмотрения недоступных непосредственному наблюдению мыслительных процессов, модельных конструктов, подготовленная накопленным опытом не только в лингвистике, но и в сопредельных науках - психолингвистике, нейролингвистике, компьютерной лингвистике и др.
Основная часть
В когнитивной лингвистике, которая манифестировалась как отдельное лингвистическое направление в 1989 г. в Дуйсбурге (ФРГ), идеи об участии языка в познании мира, которые можно найти в трудах мыслителей от античности до наших дней, получили фронтальную разработку. И уже в 90-е годы когнитивная лингвистика, первоначально объединенная лишь познавательными установками и исходной гипотезой об объяснительной силе обращения к мыслительным категориям, постепенно обретает свой предмет, свою внутреннюю структуру, свой взгляд на процесс познания
В настоящее время когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в парадигме концепций современного языкознания, демонстрируя при этом разнообразие направлений и выделяя ведущие фигуры в разных школах когнитивной лингвистки. В рамках данной дисциплины ведутся исследования принципов языковой категоризации (Дж. Лакофф), типов понятийных структур и их языковых соответствий (Р. Абельсон, М. Минский), когнитивносемантических суперкатегорий (Л. Талми, Дж. Лакофф), пространственных отношений и типов концептуализации движения в языке (Р. Лэнекер), телесного базиса человеческого сознания и языка (Э. Рош, Ю.Д. Апресян), метафорических и метонимических отношений в языке (Дж. Лакофф, М. Джонсон).
В отечественной когнитивной лингвистике выделились направления культурологического исследования концептов, в котором язык выступает как один из источников знаний о концепте. Лингвокультурологическое направление опирается на кумулятивную функцию языка. Язык рассматривается как универсальная форма первичной концептуализации мира, выразитель и хранитель знания о мире [Степанов, 2007; Карасик, 2002].
В основе знаний о мире лежит такая единица ментальной информации, как концепт, которая, как подчеркивается в когнитивно-семантическом направлении, обеспечивает выход на концептосферу социума. Семантико-когнитивное исследование направлено на изучение лексической и грамматической семантики языка как средства доступа к содержанию концептов, как средства их моделирования от семантики языка к концептосфере [Попова, Стернин, 2005, 2007; Ченки, 2002].
В когнитивно-дискурсивном направлении центральным остается вопрос о соотношении языка и мышления. Язык рассматривается как инструмент, участвующий в кодировании, трансформации и репрезентации информации, знания [Алексеева, 1998; Алексеева, Мишла-нова, 2002].
Несмотря на то что каждое направление, уже достаточно сформировавшееся, имеет свои методические принципы и предмет исследования, интегрирующей идеей продолжает оставаться идея о том, что язык по своей природе - когнитивная система, часть когнитивной способности человека. Язык и языковые процессы не просто связаны с когнитивными процессами, структурами, с ментальными репрезентациями, а также с когнитивными системами обработки, хранения и передачи информации, язык - это сам когнитивный механизм. Правда, каждое из направлений дает собственное прочтение данной мысли, расставляет собственные акценты в исследовании. Так, основным принципом когнитивно-дискурсивного направления, разрабатываемого, в том числе, и представителями Пермской научной школы, признается принцип антропоцентризма, который предполагает исследование взаимодействия происходящих в сознании человека когнитивных процессов и семантики языковых единиц [Ворка-чев, 2001; Кубрякова, 2004; Мишланова, Уткина, 2008].
Центральным постулатом когнитивно-дискурсивного направления является постулат об интегративности, который отражает мысль о том, что когнитивные и языковые процессы связаны, из чего следует, что структура и значение языковой единицы зависят от происходящих в сознании человека процессов концептуализации в ходе практического освоения человеком мира. Языковой знак участвует в процессах концептуализации и категоризации, результаты которых фиксируются в языковом знаке, что открывает доступ к знаниям, к когнитивным механизмам, процессам, которые протекают в дискурсе [Кубрякова, 1997]. Дискурс -это коммуникативная деятельность, в которой, собственно, и отражается взаимодействие человека с реальной действительностью, и происходящие в ходе этого взаимодействия когнитивные процессы при участии языка [Алексеева, Мишланова, 2002].
Результатом дискурсивной деятельности является связный текст, организуемый языковыми знаками в единую формальную и содержательную структуру.
Именно текст, как материальная данность дискурса, дает ключ к исследованию последнего [Степанов, 1995]. Чтобы получить этот ключ, необходимо знать, что представляет собой текст. Ответ на этот вопрос может дать дериватология, которая манифестировалась как лингвистическое направление в 1981 г. в Пермском государственном университете по инициативе профессора Л.Н. Мурзина [Адливанкин, Мурзин, 1984; Алексеева, Мишланова, 2015]. Становление дериватологии хронологически предшествует становлению когнитивной лингвистики. И это закономерно. Если когнитивная лингвистика, подчеркивая мысль о том, что язык - это общий когнитивный механизм, когнитивный инструмент, играющий роль в кодировании, трансформировании, репрезентации информации в процессе дискурсивной деятельности, имеет целью описание когнитивных механизмов дискурса, формирования ментальных сущностей и структур в результате осуществления когнитивных процессов при участии языка, то в центре внимания дериватологии оказывается непосредственно природа языка, который, собственно, и открывает доступ к речемыслительным и, вместе с этим, к когнитивным процессам [Мурзин, 1984]. В деривационной концепции Л.Н. Мурзина язык рассматривается в его реальном функционировании. Основные постулаты дериватологии: деривация есть особого рода развитие; переход одних единиц в другие; деривационный процесс принадлежит онтологии.
Деривация в концепции Л.Н. Мурзина соотносится с речемыслительной коммуникативной деятельностью и осуществляется в ходе производства текста, где происходит развитие мысли. Деривация - это сложный семиотический процесс, связанный с миром реальной действительности и ее отражением в человеческом сознании. По словам Л.Н. Мурзина, «текст - это универсальная форма семиозиса, в которую облекается язык, как беспрерывно развивающаяся семиотическая система» [Мурзин, 1984, с. 15]. Как в дискурсивной лингвистике, так и в дериватологии внимание фокусируется на процессуальном аспекте речевой деятельности. Однако дериватология предлагает собственно лингвистическое понимание процесса образования языковых единиц, предполагая исследование этого процесса изнутри, в пределах единиц языка как таковых. При этом речь идет о внутренних (собственно лингвистических) правилах деривации. Дериватология показывает, как языковые процессы обслуживают формирование и развитие мысли в процессе текстообразования, каким образом приспосабливается язык для формирования мысли, вырабатывая определенные деривационные законы, правила и нормы, результаты действия которых запечатлеваются непосредственно в языковых единицах [Мурзин, 1988, с. 3; Плясунова, 1991]. Мир динамичен, динамична мысль, и язык - это тоже динамическая система мыслительных операций, необходимых для языкового воспроизведения того или иного фрагмента реального мира. В языке сформированы механизмы, которые обеспечивают движение мысли и перевод ее с помощью этих механизмов во внешнюю речь.
Но, подчеркивая динамическую природу языка, Л.Н. Мурзин не исключает, а, напротив, предполагает существование статического в языке [Мурзин, Штерн, 1991]. Порождаясь в процессе речевого творчества, языковая система запечатлевает в себе не только результаты, но и характер предшествующих актов деривации, формируя при этом определенную систему деривационных отношений между языковыми единицами - хранителями результатов деривации, так как именно в этих единицах обнаруживаются рефлексии, примененных в процессе деривации операций, по типу и характеру которых можно судить о вкладе последних в формирование семантического, прагматического, деривационного потенциала языковых единиц, позволяющего представить любую внеязыковую категорию. Таким образом, каждый фрагмент действительности получает специальное обозначение, которое возникает как результат действия соответствующих деривационных механизмов, действующих не хаотично, а по определенной программе, устанавливающей корреляцию субстанции, структуры и функции деривационного процесса.
Деривационные процессы выполняют определенное смысловое задание, при этом для достижения каждой конкретной цели необходимо определенное число формальных преобразований, и в этом смысле деривационные процессы исчисляемы и моделируемы. Инструментом познания этих скрытых процессов является деривационная модель, которая позволяет раскрыть семантический, деривационный и прагматический потенциал языковых единиц разного уровня и тем самым определить когнитивную ценность соответствующих языковых единиц.
Опираясь на семантический и деривационный потенциал языковых единиц когнитивная лингвистика, с одной стороны, получает доступ к собственно когнитивным процессам, а, с другой стороны, может способствовать когнитивному осмыслению деривационных процессов.
Когнитивная лингвистика как интегративная наука аккумулировала опыт предшествующих лингвистических сопредельных наук, в том числе и дериватологии, которая решая вопрос о соотношении трех факторов в динамическом поле познания, видит ответ на вопрос о природе языка в том, что язык является не только средством выражения, но и средством образования и развития мысли. Мышление это не просто функция языка, а сама его природа. Язык и мышление связаны. Специфическая роль языка в отношении мысли при этом заключается в том, чтобы служить посредником между мыслью и звуком, но таким образом, что их объединение приводит, вместе с тем, к обоюдному разграничению механизмов и единиц.
Таким образом, единство мыслительных и языковых механизмов, но не их тождество делает возможным выбор целей исследования: акцент может делаться на языковые механизмы, процессы и законы, как это имеет место в дериватологии, и на когнитивные механизмы, как это происходит в когнитивной лингвистике. При этом именно знание того, как устроен язык, то есть общий когнитивный механизм, позволяет когнитивной лингвистике ответить на вопрос, как когнитивные механизмы, в том числе и язык, участвуют в когнитивном расчленении реальности, как управляет дискурс языковым знаком с целью порождения, восприятия, переработки и трансформации знания. Знание того, как осуществляются речемыслительные процессы, становится ключом к пониманию того, как функционирует познавательная система. Таким образом, дериватология, как и когнитивная лингвистика, находясь в одном динамическом поле со множеством переменных, и решая вопрос о соотношении трех факторов - объективной реальности, мышления, языка - не только не противоречат друг другу, напротив, они находятся в отношении комплементарности, являясь генетически едиными. В некоторых случаях сотрудничество дериватологии и когнитивной лингвистики становится просто необходимым. Как отмечает С.Л. Мишланова, в современных когнитивных исследованиях метафоры высказывается неудовлетворенность технологией идентификации метафоры, которая страдает интуитивностью [Мишланова, Уткина, 2008; Krennmayr, 2011, р. 20]. Важным условием исследования метафоры, следовательно, становится разработка надежной процедуры идентификации метафоры, что с необходимостью предполагает учет взаимосвязи языкового и когнитивного в структуре метафоры. Пролить свет на взаимосвязь когнитивных и языковых процессов и их результаты позволяет деривационная теория метафоры, которая вслед за Л.Н. Мурзиным разрабатывается пермскими лингвистами [Алексеева, 1996, 1998; Мишланова, 1998].
Именно деривационная интерпретация когнитивных процессов метафоризации, а именно категоризации и концептуализации способствует достоверности и объективности исследования. И это понятно. Исследователь руководствуется не интуицией, а опирается на данные дериватологии, которая раскрывает генезис живой метафоры, процесс ее образования в речевой деятельности [Симашко, Литвинова, 1993].
Результаты такой концептуальной кооперации и интеграции дериватологии и когнитивной лингвистики оказываются плодотворными и перспективными. Свидетельством тому является разработка деривационной модели перевода при рассмотрении метафоры в качестве теоретического аналога терминологизации, исследования терминологической метафориза-ции, мультимодальной метафоры как единицы мультимедийной коммуникации [Мишланова, Алексеева, 2002; Мишланова, Хохлова, 2013].
Сотрудничеству когнитивной лингвистики и дериватологии не грозит проявление эклектичности и фрагментарности, так как они имеют единую платформу. Их объединяет стратегическая менталистская идея: язык рассматривается как орудие мысли, который не имеет самостоятельного существования. Он обеспечивает реализацию речевой деятельности и вносит единство в этот процесс. Взаимодействие когнитивной лингвистики и дериватологии придает целостность исследованию человеческой когниции, так как при таком подходе не происходит разрыва цепочки: реальная действительность - мышление - язык. Расставляя акценты в исследовании, открывая все новые аспекты соотношения этих факторов, когнитивная лингвистика и дериватология видят перед собой не груду разнородных явлений, а целостный функционирующий организм - язык, как часть когнитивной архитектуры человека.
Игнорирование, пренебрежение каким-либо из факторов, как показывает история, заводит исследование в тупик, и это не случайно. Какой бы способ мы ни приняли для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности, в ней с неизбежностью обнаруживаются две стороны, каждая из которых коррелирует с другой и значима лишь благодаря ей - язык и мышление, в котором отражается реальная действительность [Колшанский, 1975]. Именно такой подход соответствует целостному представлению объекта.
Установив взаимосвязь дериватологии и когнитивной лингвистики и вытекающие из этого возможности их взаимодействия в исследовании речемыслительных, когнитивных механизмов, остановимся атрибутивной деривации (АД) в надежде на то, что данный опыт может оказаться полезным при описании когнитивного функционирования языка.
В предлагаемой статье исследуется атрибут в деривационном аспекте, что предполагает рассмотрение атрибута не в статическом, а динамическом аспекте, соответствующем природе атрибута. Основным понятием в работе является понятие атрибутивной деривации, которая вслед за Л.Н. Мурзиным рассматривается как процесс образования атрибута в процессе текстообразования [Мурзин, Плясунова, 1984а]. С точки зрения динамики языка существует тесная связь между порождением атрибута как единицы текста и самого текста: в тексте отражается некоторая динамическая модель фрагмента действительности, а атрибут рассматривается как элемент модели этой действительности. В такой постановке проблемы находит выражение исходный постулат исследования о динамизме языка и мышления. АД связана с речемыслительными процессами и как таковая является фрагментом текстообразования. В монографии подчеркивается идея о том, что динамизм, связанный с порождением одних единиц из других, является внутренне присущим языку, а не привносится в него описывающей его лингвистической моделью, как это имело место в порождающей грамматике Н. Хомского. В связи с этим решается насущный в настоящее время вопрос о моделировании и его статусе в лингвистике [Белоусов, 2010]. В настоящем исследовании утверждается и доказывается мысль об онтологичности модели атрибутивной деривации (МАД). МАД - это не просто способ описания языка. Опираясь на экспериментальные исследования психологии речи, нейрофизиологии, данные которых ассимилировались психолингвистикой, определяются контуры лингвистической онтологии и локализуется исследование атрибута, АД в речемыслительной деятельности и на этой основе разрабатывается МАД. Рассмотрение вопроса о моделировании, принципиальной моделируемости речемыслительных процессов, об онтологичности деривационных моделей решается и подтверждается в настоящее время исследованиями также в области когнитивной лингвистики, в частности, при описании концепту- альной интеграции и концептуальной деривации [Мишланова, Уткина 2008]. Являясь ключевым понятием работы, МАД, как показывает исследование, обладает большой объяснительной силой, но, как подчеркивается в работе, МАД - это теоретический аналог реальных процессов. Хотя она не имеет жесткого предикативного характера, а обладает вероятностными признаками, тем не менее, это лишь модель. Реальность языка богаче и разнообразнее его модели. В связи с этим важным представляется решение двух проблем: проблемы адекватности этой модели реальности языка и проблемы модификации этой модели в тексте. Верификация МАД, выявление особенностей экспликации МАД позволили разработать типологию шагов АД и тем самым пролить свет на процессы текстообразования, выявить коммуникативно-прагматический и функциональный потенциал МАД.
Анализ текстов показал, что модель реализуется различным образом. Это послужило основанием для создания типологии шагов АД: полных/компрессированных; неразрыв-ных/разрывных; прямых/инверсных. Лексико-семантические модификации в процессе оформления результатов АД на конечном этапе, усложнение структуры исходных предложений на предшествующих шагах деривации обусловливают специфику реализации МАД в реальном тексте и позволяют уточнить понятие полного и компрессированного шагов. Выделяются шаги полные идентичные, с частичной идентичностью, варьирующие шаги, зависи-мые/независимые. В реальных текстах возникает тонкая вязь различных типов экспликации как результат многообразных, протекающих симультанно процессов на глубинном уровне. Выделенные типы экспликации АД позволяют изменить упрощенное представление об АД и ее результатах, зафиксированных в тексте лишь в виде полного идентичного прямого и неразрывного шага. Анализ показал, что функционирование шагов АД в тексте обусловлено рядом факторов, к которым можно отнести следующее: вид преобразования исходных единиц способ образования атрибутивного словосочетания (АС), полнота выраженности результатов АД, тип лексико-семантического представления результатов АД, разрывность-неразрывность шага (лингвистический аспект). Следует отметить, весь языковой механизм АД приводится в действие, прежде всего, автором текста. Поэтому функционирование шагов АД, обусловливают также такие факторы, как определенная ситуация общения, замысел автора, его коммуникативные намерения. Учет этих факторов позволил разработать функциональную модель АД, состоящую из нескольких блоков. Первый блок включает структурирующую функцию (собственно текстообразующую); другой блок составляют референтноинформативные функции (идентифицирующая, дистинктивная, ретроспектирующая, аккумулирующая, акцентирующая, усилительная); третий блок - функция синтагматического оформления (конструирущая и функция экономии языковых средств); четвертый - стилистико-прагматические функции. В формировании функций участвуют глубинные механизмы АД. Разнообразие экспликации АД в тексте не означает, однако, несостоятельности МАД, ее несоответствия реальности языка. Причина возможного разнообразия кроется в самой модели. Язык не только динамичен, процессуален, но и вариативен, что открывает возможности выбора способа преобразования исходных единиц, выбора технических средств-операторов способа лексико-семантического оформления результатов контаминации в соответствии с замыслом автора текста. Состоятельность МАД заключается уже в том, что она позволяет объяснить возможные отклонения от модели. Анализ большого массива фактического материала свидетельствует о том, что в тексте обнаруживаются следы АД, позволяющие реконструировать процесс АД таким образом, как это предусмотрено в МАД: в процессе текстообразования происходит переразложение предикативных связей, атрибуты, представленные в тексте, возникают в результате контаминации исходных единиц при участии операции компрессии, конверсии, инверсии, транспозиции. Все описанные в МАД способы образования были обнаружены в тексте. Правда, было замечено, что встречаемость разных способов образования АД в тексте различна, что послужило основанием для выделения доминантных и рецессивных способов образования АД.
К доминантным способам относятся способы преобразования исходных единиц глагольного типа, в которых участвуют операции транспозиции, конверсии; к рецессивным - способы преобразования интродуктивной композиции с отношением тождества, принадлежности.
Обнаружение таких способов в тексте послужило фактическим обоснованием адекватности МАД реальности языка. Рецессивность тех или иных способов образования АС не является свидетельством ущербности модели. Редкая встречаемость указанных способов имеет объективное основание.
Заключение
Проведенное исследование показало, что деривационный подход может быть плодотворным в исследовании деривационной сущности атрибута, а предложенная МАД, как теоретический аналог языка, постоянно функционирующего, динамичного явления, оказывается жизнеспособной, в чем убедили многочисленные факты языка.
Результаты деривационного исследования атрибутов, в свою очередь, могут способствовать достоверности и объективности когнитивной интерпретации фактов языка в рамках когнитивно-дискурсивного подхода.
Список литературы К вопросу о статусе дериватологии в современной когнитивной лингвистической парадигме
- Krennmayr T. Metaphor in Newspapers. VU University Amsterdam, 2011.
- Алексеева Л.М. Лингвистические механизмы метафоризации // Лингвистические и методические аспекты текста. Сб. науч. тр. Пермь, 1996.
- Алексеева Л.М. Термин и метафора: семантическое обоснование метафоризации. Пермь, 1998.
- Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь, 2002.
- Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. Москва, 1975.