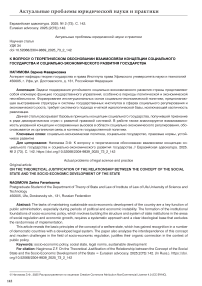К вопросу о теоретическом обосновании взаимосвязи концепции социального государства и социально-экономического развития государства
Автор: Нагимова З.Ф.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Задачи поддержания устойчивого социально-экономического развития страны представляют собой ключевую функцию государственного управления, особенно в периоды политической и экономической нестабильности. Формирование институциональных основ социально-экономической политики, предполагающее выстраивание структуры и системы государственных институтов в сферах социального регулирования и экономического роста, требует системного подхода и четкой идеологической базы, исключающей хаотичность реализации. Данная статья раскрывает базовые принципы концепции социального государства, получившей признание в ряде демократических стран с развитой правовой системой. В работе также анализируется взаимозависимость указанной концепции и современных вызовов в области социально-экономического регулирования, обосновывается их органичная связь в контексте государственной политики.
Социально-экономическая политика, социальное государство, правовые нормы, устойчивое развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/140309904
IDR: 140309904 | УДК: 34 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_73_2_142
Текст научной статьи К вопросу о теоретическом обосновании взаимосвязи концепции социального государства и социально-экономического развития государства
Правовая сущность легитимной и народной государственной власти обуславливает необходимость организации такой системы и структуры законодательства и государственных органов, которая будет отвечать требованиям верховенства закона, примата прав и свобод человека и гражданина, обеспечению достойного уровня жизни в конкретных политико-экономических условиях. На объективную необходимость построения должной социально-экономической системы указывает и Конституция РФ. Нормы о социальной природе российского государства лежат в основе конституционных основ отечественного правопорядка, а потому Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ) [1].
Между тем, с нашей точки зрения, провозглашение и реальное функционирование социального государства невозможно без должной теоретико-идеологической базы, которая не только обосновывает построение социально направленной системы публичной власти, но и предвосхищает своевременные и объективно обусловленные внешней конъюнктурой изменения в социально-экономической политике государства. Идеологическое обеспечение социально-экономической политики должно способствовать построению эффективной законодательной базы в этой области, которая будет способна к трансформации и адаптации с учетом постоянно меняющихся внешних условий, но при этом в своей фундаментальной части оставаться неизменной и прочной. В этой связи нами предлагается к анализу концепция социального государства в ретроспективе и на современном этапе развития теории государства и права в своей взаимосвязи с социально-экономическими вопросами политики развития государства.
Генезис современной социально-экономической политики демократического и правового государства связан с возникновением и развитием концепции социального государства. Именно социальное государство в своей сущности направлено на обеспечение достойного уровня жизни своих граждан. Указанная функция государства, очевидно, не может быть воплощена без анализа и учета экономических детерминант. Изучение трансформации концепции социального государства в данном контексте дает возможность проанализировать закономерности развития социально-экономической политики в целом. Исторически политико-правовая мысль сформировала три базовые модели взаимодействия между отдельной личностью, обществом и государством в рамках решения социально-экономических проблем:
-
1) социальный индивидуализм, который исходит из примата человеческой личности перед любым обществом и государством и не предполагает активного участия человека в решении общественно-политических вопросов во взаимодействии с государственными институтами;
-
2) социальный универсализм, устанавливающий приоритет общественного и публичного над личным и частным. В зависимости от крайности развития идей коллективизма может быть выражен как в относительно мягкой форме широкой кооперации государства и общества (социал-демократизм), так и в более радикальной, предполагающей деконструкцию государственных институтов и подчинение индивида интересам общества в самом широком смысле (коммунизм);
-
3) «центристский» подход, в силу которого проводятся изыскания на предмет гармонизации взаимоотношений общества и государства для целей всеобщего благоденствия.
Именно последний подход, с нашей точки зрения, следует считать теоретической базой, на основе которой должна покоиться концепция социального государства. Гармония и равновесие противоположностей не только отражают сущностную идею, лежащую в основе социального государства, но и направлены на гармонизацию интересов отдельного человека и общества.
Считается, что впервые на вопросы построения социального государства европейские мыслители обратили внимание еще в эпоху Античности. Те или иные вопросы построения справедливого общества путем перераспределения общественного блага встречаются у Пифагора, Аристотеля, Цицерона, Макиавелли. С нашей же точки зрения, более последовательные идеи социального государства можно обнаружить в трудах Ш.Л. Монтескье. Так или иначе, в юридической литературе большинство исследователей склонны относить генезис идей социального государства в более-менее современном его понимании к трудам Т. Гоббса и Дж. Локка. Мы находим это справедливым, поскольку философско-правовые мысли указанных авторов обосновывают необходимость достижения политических консенсусов между отдельными индивидами, обществом и государством, что в целом отражает современные представления о сущностном содержании концепции социального государства и его роли в устойчивом социально-экономическом развитии общества. В развитие данных идей Ж.Ж. Руссо указывал, что одной из важнейших задач государства выступает устранение несправедливого разделения людей на богатых и бедных, однако он не настаивал на уничтожении буржуазного слоя общества как такового.
Следующий этап развития идей социального государства мы связываем с взглядами Гегеля, который замечает, что в государствах его времени имеет место быть одновременное существование как частного интереса в виде интереса отдельного человека, так и общего – в виде государственного (публичного) интереса. При этом свобода каждого отдельного человека как бы растворена в общем «котле» государственного политического механизма, «отчасти же личность сама признает и вбирает в себя эту всеобщность, усваивает ее как свое собственное достояние». Идеи Гегеля утверждают синкретизм и взаимообусловленность частного, общественного и государственного. Вопросы об оптимальном соотношении элементов указанной триады актуальны до сих пор.
С нашей точки зрения, наиболее последовательными и революционными для целей построения концепции социального государства в теории и на практике оказались взгляды и идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. Они пытались выяснить политические и экономические условия освобождения трудящихся от любых форм эксплуатации и социального угнетения, бесправия и государственного произвола. Отметим, что как бы ни видоизменялись идеи К. Маркса и Ф. Энгельса в практике их реализации теми или иными политическими режимами, они оказали существенное влияние и продолжают влиять на политикоправовую и философскую мысль человечества. С нашей точки зрения, справедливо будет сказать, что наиболее существенные изменения сложившаяся капиталистическая политэкономическая модель претерпела благодаря социалистическим взглядам.
Безусловно, импульсом для социализации правовых систем Европы во многом выступил СССР, декларировавший создание общества равных возможностей для всех граждан, независимо от их материального статуса. Разумеется, со временем советская модель столкнулась с кризисом политических институтов и хозяйственных механизмов. Тем не менее фокус на социальные приоритеты – создание государства всеобщего благосостояния, введение бесплатного здравоохранения, доступного образования, программ улучшения жилищных условий, развитие массового спорта и культурной инфраструктуры – оказал практи- ческое, а не декларативное влияние на формирование социально ориентированных моделей в западных странах.
Изыскания российской правовой мысли в области идейного содержания социального государства продолжились и в новейшее время. Анализируя советский и мировой опыт, взяв в расчет сложившиеся политические и экономические условия современного российского государства, учитывая особенности социального и духовнонравственного содержания российского общества, целый ряд выдающихся ученых исследовали и продолжают исследовать вопросы социальноэкономического развития отечественного правопорядка (например, В.С. Нерсесянц, С.А. Авакьян, Г.В. Атаманчук, М.В. Баглай, О.Е. Керимов, М.Н. Марченко, Ф.М. Раянов, Т.Я. Хабриева, Б.С. Эбзеев и др.).
Как видим, концепция построения социального государства прошла долгий и противоречивый путь развития. Так в чем же заключается сущностное содержание социального государства как особого государственно-правового явления? Здесь следует начать с концептуальных основ понимания социального государства, в основе которых лежит понятие справедливости. Таким образом, с точки зрения понимания социального государства и справедливости, в настоящее время сложились две разные правовые школы – англосаксонская и континентальная. Первая рассматривает справедливость через призму субъективного подхода, где во главу угла поставлена добросовестность того или иного субъекта права. Континентальная же школа склонна считать справедливость правовым принципом, на основании которого должно выстраиваться отраслевое законодательство. В.С. Нерсесянц, анализируя справедливость как правовую категорию и составную часть права как такового, указывает, что имеет место быть «противопоставление истинной правовой справедливости иным видам справедливости» [2]. Действительно, иные виды справедливости тяготеют в большей степени к определенным взглядам, которые могут не отражать объективности, например представления о справедливости, основанные на субъективизме, релятивизме, усмотрении государственных идеологов и частного выбора (индивидуального, группового, элитарного, партийного, классового и т. п.). По данной причине В.С. Нерсесянц правильно отмечает, что «справедливо то, что выражает право, соответствует праву и следует праву, другого принципа и другой формы выражения, кроме правовой, справедливость не имеет» [2].
С субъективной точки зрения, справедливость также существует одновременно с объективной справедливостью и заключается в субъективной оценке принимаемых государственных решений через призму честности, равенства, соразмерности, целесообразности [4]. Таким образом, концепции социального государства имманентно присуща справедливость как особая правовая категория и явление.
Использование права как инструмента социального неравенства в таких условиях выступает оправданным и единственно верным решением. Вместе с тем провозглашение всеобщего равенства не означает достижения такого равенства на деле. Так, к примеру, В.Д. Зорькин справедливо отмечает невозможность применения в российских условиях формального равенства как равенства между деянием и воздаянием перед единой для всех нормой свободы [5]. Несмотря на то, что, по справедливому замечанию С.В. Калашникова, «исходным критерием выделения социального государства в особый тип стал государственный патернализм, обращенный на всех членов общества независимо от их социальной принадлежности» [6], чрезмерная патернализация общества государством не может не иметь негативных последствий в виде отчужденности и абсентеизма членов такого общества, что справедливо критикуется в юридической литературе. В частности, Л.С. Мамут указывает, что использование права в качестве инструмента достижения социального равенства недопустимо, поскольку при реализации социальной функции между государством и индивидом отсутствует принцип взаимности [7].
Мы находим верной оценку О.В. Родионовой так называемого «развитого социального государства», которому присуща адресность социальной помощи при одновременном отказе от патерналистского типа отношений, с предоставлением работоспособным гражданам возможности самореализации и заботой о тех лицах, которые по объективным причинам не могут позаботиться о себе самостоятельно [8]. Такая модель социального государства, с нашей точки зрения, имеет баланс между социальной функцией государства и вовлечением общества в общественно-политическую жизнь при сохранении частной инициативы.
В этой связи нельзя не признать справедливыми следующие слова Е.М. Охохонина: «Поиск оптимальной модели становления и функционирования социального государства – процесс очень сложный, многогранный, длительный, требующий как активизации законодательной деятель- ности государства по укреплению социальной защищенности, обеспечения соответствующего социального, экономического, политического, духовного климата в стране, так и активной, ответственной позиции граждан в государстве» [9].
Анализ многочисленных решений Конституционного Суда РФ позволяет сделать вывод об отступлении от принципа формального равенства в сфере реализации социальных прав [10]. Конституционный принцип равенства предполагает равный подход к формально равным субъектам и не обусловливает необходимости предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям, а равенство перед законом и судом не исключает фактических различий и необходимости их учета законодателем.
В частности, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении от 29 мая 2014 г. № 996-О, «установление опеки представляет собой вынужденную и временную меру, имея в виду возможность освобождения и отстранения опекуна от исполнения им своих обязанностей в предусмотренных законом случаях, в том числе по его просьбе, и не влечет возникновения у него прав и обязанностей в отношении своего подопечного в объеме, равном объему прав и обязанностей родителей по отношению к их детям». В связи с этим «осуществление дифференциации условий назначения пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста родителям и опекунам детей-инвалидов не может рассматриваться как нарушающее права опекунов и не согласующееся с конституционным принципом равенства» [11].
Следует отметить, что до настоящего времени в юридической науке не сложилось единства мнений относительно понятия и содержания социального государства. Так, видный теоретик права М.В. Баглай пишет, что социальным может называться такое государство, которое «берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности» [12]. Э.Я. Баталов, анализируя современное состояние постиндустриального общества, приходит к выводу, что социальное государство объективно обуславливается сложившейся экономической конъюнктурой и определяется как «государство, принимающее на себя ответственность за положение дел в социальной сфере, а стало быть, рассматривающее политику социального регулирования в качестве одной из важнейших своих функций» [13].
Несколько иной подход сложился в современной европейской политико-правовой мысли.
Так, к примеру, А. Мюллер-Армак указывает, что социальное государство есть «инструмент формирования социального окружения, защиты той группы людей, к которой принадлежит данная личность, защиты ее независимости, возможности для продвижения, улучшения взаимоотношений между людьми» [14]. Согласно позиции Х. Байера, «современное социальное государство – это централизованно управляемая забота об обеспечении всех граждан во всех жизненных положениях, которая раскрывается как первейшее проявление современной демократии, при том, что социальная справедливость основывается на экономическом либерализме» [15].
Различные трактовки социального государства, как видно, складываются из различного понимания сущностного содержания категории «социальность», в основу которого положены обязательства государства по заботе о населении, по уравновешиванию частного и публичного интересов, обеспечение «обязательства индивида принимать участие в решении общих задач, проблем совместной жизни, даже если для достижения этого неизбежно использование силы» [16].
Как видно, государству надлежит при построении социального государства соблюсти баланс между реализацией социальной функции и вовлеченностью общества и отдельных его членов в общественно-политическую жизнь страны, равно как и не допустить чрезмерных преференций или необоснованного угнетения в отношении тех или иных слоев населения. Государство, как правильно отмечает А.Ф. Мещерякова, называется социальным не потому, что при реализации социальной функции оно реализует механизмы перераспределения общественных благ для социальной защиты граждан (что означалось бы примитивное понимание идеи социального государства), а потому, что помимо этого социальная политика концентрирует вокруг себя широкий общественный консенсус [3]. Именно в достижении общественного согласия и единения, как нам представляется, должно заключаться идейное наполнение российской модели социального государства.
Таким образом, взаимосвязь конституционно установленной модели социального государства и обеспечения последовательного, устойчивого и эффективного социально-экономического развития государства характеризуется наличием строгой диалектической связи. С нашей точки зрения, социально-экономическое развитие государства и его социально-направленная сущность соотносятся как общее и целое. Реализация госу- дарственной политики, направленной на подъем экономического потенциала различными методами (от монетарной политики Центрального Банка РФ до стимулирования производства и потребления посредством протекционных мер), осуществляемой на основании принципов законности, целесообразности, соразмерности и справедливости, при помощи эффективных государственных и общественных институтов, в конечном итоге способствует социальной защите населения и обеспечению достойного уровня жизни населения государства, реальному единению и синергии частных и публичных интересов.