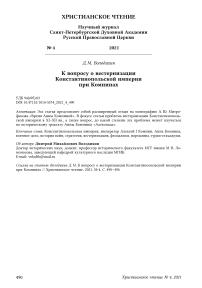К вопросу о вестернизации Константинопольской империи при Комнинах
Автор: Володихин Дмитрий Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Научная жизнь. Полемика
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Эта статья представляет собой расширенный отзыв на монографию А. Ю. Митрофанова «Время Анны Комниной». В фокусе статьи проблема вестернизации Константинопольской империи в XI-XII вв., а также вопрос, до какой степени эта проблема может изучаться по историческому трактату Анны Комнины «Алексиада».
Константинопольская империя, император алексей i комнин, анна комнина, военное дело, история войн, стратегия, вестернизация, феодализм, норманны, турки-сельджуки
Короткий адрес: https://sciup.org/140261420
IDR: 140261420 | УДК: 94(495).03 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_490
Текст научной статьи К вопросу о вестернизации Константинопольской империи при Комнинах
Об авторе : Дмитрий Михайлович Володихин
Доктор исторических наук, доцент, профессор исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой культурного наследия МГИК.
Cсылка на статью: Володихин Д. М. К вопросу о вестернизации Константинопольской империи при Комнинах // Христианское чтение. 2021. № 4. С. 490–494.
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No. 4
Dmitry M. Volodikhine
On the Westernization of the Constantinople Empire under the Comnenians
UDC 94(495).03
Монография А. Ю. Митрофанова «Время Анны Комниной» [Митрофанов, 2021] представляет собой модернизированный вариант более ранней монографии того же автора «Император Алексей I Комнин и его стратегия» [Митрофанов, 2020]. Сам автор этого факта не скрывает и честно пишет во вводной части: «Настоящая работа является продолжением и, в определенной степени, дополнением нашей предыдущей монографии „Император Алексей I Комнин и его стратегия“. Она посвящена специально Анне Комниной, точнее, тому, как Анна изобразила культурно-исторический контекст своего времени. Как историк и политический деятель Анна занимает в настоящей работе центральное место. При этом в данную работу вошли некоторые главы из нашего предшествующего исследования, которые были дополнены и расширены как с точки зрения привлечения новых источников и историографии, так и с точки зрения выводов» [Митрофанов, 2021, 35].
Объем заимствований велик. Со всей точностью определить его затруднительно, однако, если судить на глазок, то более 50%. И всё же новая монография А. Ю. Митрофанова представляет собой самостоятельное издание, обладающее самостоятельной научной ценностью.
Отличия двоякие.
Во-первых, действительно, заметно расширена историография. Притом историографический блок увеличен за счет «свежей» литературы и составлен со значительным количеством критики, а вовсе не путем простого пересказа.
С этой точки зрения наиболее интересным добавлением является полемика с идеями Питера Франкопана [Francopan, 2012], чья монография о Первом крестовом походе недавно получила перевод на русский язык и уже вызвала споры. Критика взглядов Франкопана со стороны А. Ю. Митрофанова представляется в целом аргументированной и справедливой. Так, например, американский историк считает, что в XI в. преобладающей силой византийской армии остается пехота, а А. Ю. Митрофанов показывает с фактами в руках, что фемный строй, ранее дававший крупные контингенты хорошо дисциплинированной и мотивированной пехоты, ко временам Анны Комнины и ее отца уже деградировал, и на первый план в вооруженных силах империи выдвинулась тяжелая кавалерия [Митрофанов, 2021, 54]. Собственно, о массированном использовании этой тяжелой кавалерии — «катафрактариев» — ромейские историки сообщают уже в X в. (например, Лев Диакон). Кроме того, Франкопан пишет о военно-техническом превосходстве западноевропейского рыцарства над византийской «пехотной» армией. В ответ А. Ю. Митрофанов с полным на то основанием замечает: «Что касается технического прогресса, то исследования археологов, оружиеведов и реконструкторов убедительно доказывают, что ламеллярные пластинчатые доспехи с наплечниками, шлемы-шишаки с масками-„личинами“, принятые на вооружение в византийской армии в XI—XII веках, также как и у древнерусских дружинников, намного превосходили в конструктивном отношении оборонительное вооружение западноевропейских рыцарей, у которых до середины XIII века преобладала кольчуга и достаточно примитивные конусные шлемы норманнского типа… Утверждение Питера Франкопана о военно-техническом превосходстве западноевропейского рыцаря XI века над византийским стратилатом является не более чем культурологическим мифом, родившимся в XIX веке под влиянием анахронистического перенесения популярных представлений о рыцарских латах позднего Средневековья в эпоху Крестовых походов» [Митрофанов, 2021, 55].
Во-вторых, А. Ю. Митрофанов стремится выявить магистральные тенденции, происходившие в обществе Константинопольской империи, увиденные Анной Комниной и переданные ею в грандиозном историческом трактате «Алексиада».
И тут на первый план выходит отношение ромеев к Западной Европе и ее представителям на Востоке. Имеется в виду отношение как самой Анны, дочери императора Алексея I (т. е. дамы исключительно осведомленной и в делах политики, и в настроениях, которые захватывали умы ромейской политической элиты), так и верхушки социума империи в целом.
Анализ изменений, происходивших во второй половине XI — первой половине XII столетия в отношении ромеев к представителям Западной Европы, пожалуй, можно назвать центральной темой новой монографии А. Ю. Митрофанова. Здесь его выводы наиболее интересны, обоснованны и продуктивны.
Итак, автор монографии отмечает: с одной стороны, «сознание собственного превосходства над „западными варварами'1 по-прежнему составляет важнейший элемент самоидентификации ромея в творчестве Анны Комниной» [Митрофанов, 2021, 31]. Что ж, не удивительно: в культурном плане империя по-прежнему, несмотря на целый ряд серьезных военных неудач и сокращение территории, превосходит Западную Европу, притом превосходит заметно. С другой стороны, политический прагматизм Константинополя, а также расширение связей с представителями западноевропейской аристократии, рыцарства и, конечно же, постоянный наём их на службу в императорскую армию намечают вектор совершенно нового процесса: «Комнинов-ская Византия преодолевает то чувство культурной исключительности, которое было характерно для придворной атмосферы периода правления Македонской династии» [Митрофанов, 2021, 31]. Автор монографии приводит несколько примеров из «Алекси-ады», а также из придворного и дипломатического быта Византии времен Комнинов: как принимают послов с Запада, как строят отношения со знатными наемниками, как отзываются о них. Эти аргументы звучат убедительно.
И А. Ю. Митрофанов в итоге делает вполне обоснованный вывод: «Эпоха императора Алексея I Комнина стала временем не только напряженной борьбы за выживание Византийской империи, но также временем открытия византийцами романо-германского мира, обусловленного как наплывом в Византию норманнских и англосаксонских наемников, так и Первым крестовым походом. Общественные отношения внутри правящей военной элиты развивались при императоре Алексее I по пути активной феодализации и культурной вестернизации™ успех комниновского переворота был во многом обусловлен переходом на сторону братьев Комнинов Гилпракта — командира немецких наемников, охранявших стены Константинополя» [Митрофанов, 2021, 302–303].
Данный тезис звучит в монографии «Время Анны Комниной» неоднократно. Автор представляет его с разных сторон, рассматривает разные аспекты «вестернизации», приводит новые и новые доводы. Особенно важным для него является влияние Запада на Византию в военной сфере, хотя тут процессы идут не в одном направлении. С одной стороны, «в XI веке в Византийской империи™ активно формировался феномен, который приобретает наибольшее развитие в следующем, XII столетии и который можно было бы назвать милитаризацией и, одновременно, вестернизацией византийской военной элиты» [Митрофанов, 2021, 27]. С другой стороны, и сама армия Константинопольской империи повлияла на тактику и вооружение западных соседей, вбирая в себя передовой опыт войн и военного дела на Востоке. По словам А. Ю. Митрофанова, «византийская армия была важным элементом в передаче традиций всад-ничества в Европе раннего Средневековья» [Митрофанов, 2021, 238]. А вооруженные силы императоров, в свою очередь, напитывались опытом в войнах с арабами и степными кочевниками, а также принимая на службу аланские конные контингенты.
И здесь хотелось бы, с одной стороны, поддержать выводы А. Ю. Митрофанова: некоторая вестернизация ромейского социума, особенно двора, армии и провинциальной знати, действительно очевидна, и прослеживается она не только по «Алексиа-де», но и по иным источникам; с другой стороны, не стоит торопиться с формулировками — некоторые термины использованы, думается, слишком поспешно.
«Вестернизация» и «феодализация» — процессы, идущие на разных планах социума; пересекаются они лишь частично. И если первая в Константинопольской империи на указанный период получает немало доказательств, то со второй всё значительно сложнее. Классический западноевропейский феодализм с его корпоративностью, иерархичностью, сложными отношениями земельной собственности и еще более сложным устройством монархической власти невозможно доказать для Константинопольской империи ни по «Алексиаде» Анны Комниной, ни по иным нарративным источникам. Тут необходима документальная база, чрезвычайно скудная в отношении исследуемого А. Ю. Митрофановым периода. Да, разрушение фемного строя в XI в., особенно после сельджукских завоеваний в Анатолии, идет полным ходом. Да, стратиотское ополчение как массовая армия уходит в прошлое, и с этим трудно не согласиться. Да, ему приходят на смену профессиональные дружины знати. Но до какой степени эта знать может ассоциироваться с «сеньорами» (а А. Ю. Митрофанов прямо использует этот термин) средневековой Франции, — вопрос очень непростой, и тут, кажется, автор поторопился.
А. Ю. Митрофанов также пишет: «Процесс т. н. феодализации Византийской империи в эпоху первых Комнинов несомненно способствовал повышению боевых качеств византийской армии и напоминал аналогичные процессы, происходившие в империи в VI веке, когда ядром армии Юстиниана были дружины т. н. букеллари-ев — сотрапезников того или иного племенного вождя, например короля готов, геру-лов, гепидов, лангобардов или гуннов, находившихся на службе у византийского императора» [Митрофанов, 2021, 233–234]. Но в VI в. — ни при Юстининане I, ни при его преемниках — феодализм не «диагностируется» в Константинопольской империи ни в малой мере. Феодализм тогда и в Западной Европе еще не сложился. Принятие на службу германских дружин — это никак не признак феодализма, это всего лишь расширение наемного контингента армии.
Настораживает также некоторая романтизация образа Анны Комниной. Конечно же, автор «Алексиады» — исключительно талантливый человек, один из величайших интеллектуалов империи. И — да, можно согласиться со следующей оценкой: «Анна Комнина — явление во многом беспрецедентное для византийской культуры. Порфирородная принцесса императорской фамилии становится историком и затмевает на почве служения Клио многих своих предшественников, следуя традициям Гомера и Геродота» [Митрофанов, 2021, 27]. Вообще говоря, своего рода «очарованность» умной дамой, автором базового нарративного источника по эпохе Комнинов, вполне понятна и даже, думается, стимулировала творческий процесс. Но нужна ли нарочитая идеализация принцессы Анны? В частности, автор монографии пишет: «Попытка Алексея Комнина после рождения в 1087 году его сына Иоанна превратить византийскую монархию в монархию наследственную (в трактовке автора монографии это „западноевропейский принцип престолонаследия“. — Д. В. ) вызвала не только личную ненависть Анны к брату, но и пробудила в сердце августейшей принцессы стремление защитить древнеримские правовые принципы, исходя из которых императорская порфира должна достаться достойнейшему точно так же, как она досталась ее отцу» [Митрофанов, 2021, 309–310]. Естественно, возникает вопрос: главным жизненным разочарованием Анны Комниной стала именно неудача в борьбе за престол отца, но стоит ли наполнять эту борьбу романтикой, давать ей некое оправдание в древних обычаях ромеев, когда достаточным будет констатировать с простотой очевидного факта: боролась за власть, проиграла, возненавидела того, кто получил власть вместо нее. Остальное — от лукавого…
При всех указанных сомнительных моментах эта новая работа А. Ю. Митрофанова о времени Комнинов достойно продолжает его прежнюю монографию об Алексее I Комнине и должна считаться творческим успехом византолога.
Список литературы К вопросу о вестернизации Константинопольской империи при Комнинах
- Митрофанов (2020) - Митрофанов А. Ю. Император Алексей I Комнин и его стратегия. СПб.: Изд-во СПбДА, 2020. 280 с. (Тираж 500 экз.).
- Митрофанов (2021) - Митрофанов А. Ю. Время Анны Комниной. СПб.: Изд-во СПбДА, 2021. 384 с. (Тираж 500 экз.).
- Francopan P. (2012) - Francopan P. First Crusade. The Call from the East. Cambridge, Massachussets, 2012. xxiv + 264 pp.