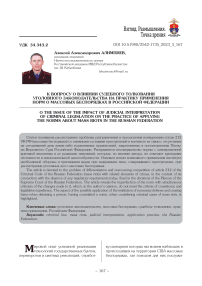К вопросу о влиянии судебного толкования уголовного законодательства на практику применения норм о массовых беспорядках в Российской Федерации
Автор: Алимпиев А.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (52), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению проблемы разграничения и преодоления конкуренции статьи 212 УК РФ (массовые беспорядки) со смежными составами преступлений в контексте ее связи с отсутствием на сегодняшний день каких-либо нормативных предписаний, закрепленных в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Раскрывается несовершенство нормы с одновременной критикой внесенных в ее редакцию изменений, которые, по мнению автора, не отвечают критериям системности и законодательной целесообразности. Освещен аспект возможного применения института необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, при рассмотрении уголовных дел о массовых беспорядках.
Уголовное законодательство, массовые беспорядки, судебное толкование, практика применения, российская федерация
Короткий адрес: https://sciup.org/140301184
IDR: 140301184 | УДК: 34.343.2 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_3_167
Текст научной статьи К вопросу о влиянии судебного толкования уголовного законодательства на практику применения норм о массовых беспорядках в Российской Федерации
М ировой опыт успешной реализации технологий государственных бунтов, переворотов и цветных революций, отработ- ку сценариев которых мы можем наблюдать в происходящих на территории США массовых беспорядках, где поводом для них послужи- ла смерть темнокожего гражданина Джорджа Флойда от рук полицейских1, не может не вызывать интерес в контексте сохранения внутренней стабильности и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Проявленная высшим руководством российского государства компетентность в противодействии инспирированным извне деструктивным протестным акциям, носившим название «Болотное движение», не снимает вопроса дальнейшего совершенствования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за совершение массовых беспорядков.
Включенные в Уголовный кодекс РФ институты и нормы являются в какой-то степени инструментом легитимной власти в формировании законного барьера злоупотреблениям правом на выражение несогласия в форме массовых акций, собраний, шествий и иных мероприятий, охватываемых лейтмотивом «борьбы с режимом».
К сожалению, уголовное законодательство России, признающее в качестве единственного своего формального источника лишь УК РФ, не лишено дефектов в части описания отдельных составов преступления и регламентации уголовной ответственности за их совершение.
Состав массовых беспорядков, предусмотренный ст. 212 УК РФ, обнаруживает в своем содержании сосредоточение проблем правоприменения, решение которых не может быть достигнуто только лишь путем законодательной коррекции и прямого внесения изменений в текст редакции статьи уголовного закона, на которые потребуется привлечение дополнительных ресурсов, средств и времени.
Обращение к судебному толкованию, формулируемому Пленумом Верховного Суда РФ, выступает в роли устранения недостатков и конкретизации норм УК РФ, снимая тем самым многочисленные вопросы, порождающие неопределенность уголовного закона [4].
Фактически реализация подобных функций Пленумом Верховного Суда РФ осуществляется посредством установления предписаний нормативного характера, юридическая природа которых как основания для принятия судебного решения может быть поставлена под сомнение [1]. Учение о формальных источниках уголовного закона в российском уголовном праве вызывает множество дискуссий о возможности признания постановлений Пленума Верховного Суда РФ в качестве таковых.
Однако факт закрепления в ст. 126 Конституции РФ полномочий дачи разъяснений по вопросам судебной практики за Верховным Судом РФ, означает, что постановления его Пленума имеют обязательный характер и оказывают регулятивное воздействие на всех субъектов, вступающих в орбиту уголовного судопроизводства [1].
Фактически в условиях Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда РФ восполняют имеющиеся в УК РФ пробелы, конкретизируя нормы, по которым состояние юридической техники уголовного закона ограничено в возможности его же интерпретации и однозначной трактовки.
На сегодняшний день можно небезосновательно признать, что норма статьи о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) не является совершенной ни по критерию системности внесенных в нее изменений, ни по уровню конструкции объективной стороны преступления.
К сказанному добавим, что возможные проблемы в применении нормы о массовых беспорядках могут усугубляться отсутствием каких-либо нормативных предписаний, закрепленных в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, необходимость которых обуславливалась бы даже при гипотетически предполагаемой идеальной конструкции нормы ст. 212 УК РФ.
Предваряя вопрос влияния судебного толкования уголовного законодательства на практику применения нормы о массовых бес- порядках в Российской Федерации, хотим обратить внимание на имеющиеся проблемы разграничения и преодоления конкуренции ст. 212 УК РФ со смежными составами преступлений.
Пожалуй, наиболее схожими признаками с участием в массовых беспорядках по конструкции объективной стороны состава преступления обладает хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Применительно к области уголовного противодействия массовым беспорядкам к первоочередной задаче вполне закономерно в этой связи следует отнести решение проблемы разграничения преступлений, предусмотренных нормами ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Законодательно и практически неурегулированное до настоящего времени решение вопроса о преодолении конкуренции между двумя нормами приводило к тому, что отдельными авторами высказывалось мнение об исключении ч. 2 из ст. 212 УК РФ, что означало бы гипотетическое упразднение нормы об участии в массовых беспорядках как самостоятельном преступлении [2, с. 112 ].
Между тем в судебной практике довольно часто встречаются факты избрания нормы о групповом хулиганстве, в то время как обстоятельства уголовного дела свидетельствуют о необходимости квалификации деяния по статье о массовых беспорядках.
В этой связи иллюстративны следующие примеры из правоприменительной практики.
Широко известно, что массовые драки возникающие между фанатами таких известных российских футбольных клубов, как «ЦСКА», «Спартак», «Зенит» и т.д., проистекают на почве истории противостояния за лидерство в чемпионате, в связи с чем противоправные действия болельщиков никак не могут быть обусловлены хулиганским мотивом, т.е. быть совершенными по незначительному поводу. Исходя из этого, можно признать противоречащей логике позицию отдельных судей, усматривающих в фактах проведения массо- вых драк футбольных болельщиков признаки группового хулиганства, исключающие применение нормы о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).
Наряду с этим следует сказать, что квалификация в таких случаях деяния по ч. 2 ст. 213 УК РФ как хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, осуществляется вне учета понимания сущности деяния, совершенного по хулиганским мотивам, к которым согласно разъяснению, данному в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», отнесены действия, совершенные по незначительному поводу либо с использованием незначительного повода.
Однако, как показывает пример одного из материалов правоприменительной практики, судьей был вынесен приговор за совершение группового хулиганства членами фанатского движения «Юнион», действия которых были направлены на организацию коллективного насилия в отношении болельщиков футбольного клуба «ЦСКА». В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу было установлено, что неформальная молодежная организация «Юнион» на фоне преданности к футбольному клубу «Спартак» находится в сотрудничестве с такими фанатскими движениями, как «Орелбачерс», «Оппозиция», «Гладиаторы», «Авангард», «Школа», «Инде-пендемкраут»1, направление деятельности которых заключается в проведении массовых драк с болельщикам принципиальных соперников «любимой» команды.
Не менее распространенной в судебной практике является проблема преодоления конкуренции между нормами ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 2 ст.213 УК РФ применительно к случаям межнациональных конфликтов.
Современные реалии как российской, так и в целом мировой действительности демонстрируют закономерность перерастания бытового конфликта, возникшего между представителя- ми двух народностей, в масштабное уличное насильственное противостояние, которое приобретает впоследствии оттенок ложно понятой позиции защиты национальных интересов, чести и достоинства нации в целом.
Обращаем внимание на то, что, исходя из содержания проявления мотивов, обстановки как непосредственного совершения групповых насильственных действий, так и им предшествующей, вряд ли можно согласиться в таком случае с выводом отдельных судей о вынесении обвинительного приговора в соответствии с ч. 2 ст. 213 УК РФ и признанием вместе с тем факта хулиганства, совершенного по предварительному сговору.
Такой подход при вынесении судебного приговора, когда фактически совершенные массовые беспорядки квалифицируются как хулиганство, совершенное по экстремистским мотивам, мы хотим продемонстрировать на следующем примере. Судом Степновского района Ставропольского края за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1, ч. 2 ст.213 УК РФ, были осуждены лица ногайской национальности, которые, по материалам следствия, находясь в группе, состоявшей из 150 человек, по мотивам национальной ненависти причинили вред здоровью членам даргинской семьи1. Судом в данном случае не были приняты во внимание ни направленность на общественную безопасность как непосредственный объект деяния, ни обстановка совершаемого преступления, и как итог это привело к неверной уголовно-правовой оценке содеянного, усмотревшей всего лишь факт грубого нарушения общественного порядка, в то время когда субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется и обуславливается сложной системой межэтнических взаимоотношений.
Разрешение обозначенных нами проблем видится в закреплении в тексте постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» формулировок, касающихся разъяснения отличий группово- го хулиганства от массовых беспорядков.
Формулировки эти должны производиться с учетом разницы в проявлении мотивов между лицами, совершающими групповое хулиганство и участниками массовых беспорядков. Кроме этого вне учета и внимания не должны остаться такие факультативные признаки объективной стороны преступления, как место, время и обстановка совершаемого деяния.
Техническая реализация, по нашему мнению, должна заключаться в упоминании того, что групповое хулиганство в отличие от массовых беспорядков не приводит к блокированию транспортных коммуникаций, дорожного и пешеходного движения, не создает обстановку, препятствующую бесперебойному функционированию государственных органов, служб и объектов жизнеобеспечения.
К настоящему времени вместе с указанной выше проблемой имеются трудности в отграничении призывов к массовым беспорядкам, квалифицируемых по ч. 3 ст. 212 УК РФ, от публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, квалифицируемых по ст. 280 УК РФ [5].
Разрешить указанную проблему одним лишь способом доктринального толкования вряд ли представляется возможным даже при признании того, что на теоретическом уровне будет сформулировано положение о применимости статьи о массовых беспорядках в случаях, когда имеет место призыв, имеющий привязку к конкретной местности, поводу и характеру применяемого насилия, выступающей специальной нормой по отношению к призывам к осуществлению экстремистской деятельности.
Следовательно, такое положение приобретет действительную юридическую силу и основание для принятия решения по конкретному уголовному делу только после того, когда оно войдет в текст постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
26.07.2010. URL:
Изучение уголовных дел о массовых беспорядках попутно вскрывает проблематику применения институтов необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, так как в практике нередки случаи, когда в обстоятельствах уголовного дела фигурировали факты коллективной защиты жизни, здоровья и иных прав обороняющихся.
В контексте затронутой проблемы показательным примером можно считать факт, имевший место в поселке Сагра (Свердловская область), знаменательный тем, что группа мужчин применила коллективную защиту от нападения членов бандитского формирования регионального масштаба, угрожавшего жизни и здоровью мирных жителей населенного пункта [3, с. 185-186].
Небезызвестен другой пример, связанный с событием на Хованском кладбище, произошедшим в мае 2016 г., вызвавшим резонанс фактом вооруженного нападения представителей криминалитета на работников кладбища из числа трудовых мигрантов, которые сумели дать достойный отпор агрессорам и отстоять свое право на необлагаемый «криминальными пошлинами» труд1.
Отмеченное актуализирует необходимость повышения гарантий на использование гражданами активной защиты от угроз физической расправы и уничтожения имущества, что должно найти отражение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».
Следует сказать, что затронутый статьей спектр проблем не исчерпывается вопросами отграничения массовых беспорядков от группового хулиганства и преступлений экстремистской направленности. Так как формат статьи не позволяет осветить их более подробно, укажем, что в практике применения нормы о массовых беспорядках также суще- ствуют проблемы преодоления конкуренции с иными видами уголовно наказуемых деяний и остро стоит вопрос применимости института о неоконченной преступной деятельности и соучастия в совершенном преступлении.
Подводя итог, выведем общее заключительное суждение по вопросу о влиянии судебного толкования уголовного законодательства на практику применения норм о массовых беспорядках в Российской Федерации.
Примеры правоприменительной практики говорят о том, что пробелы уголовного закона, которые ему присущи и для него органичны, устраняются посредством способа судебного толкования и регулятивной функцией постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ имеют не только нормативный характер, неся в себе функцию интерпретации и конкретизации норм УК РФ, но и составляют фундамент подзаконного нормотворчества, определяющего развитие уголовного закона в целом.
Решение проблем, связанных с отграничением массовых беспорядков от группового хулиганства и преступлений экстремистской направленности, а также с применением института необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, лежит в русле внесения дополнений и изменений в текст постановлений Пленума Верховного Суда РФ, регламентирующих вопросы рассмотрения данной категории уголовных дел.
Рассматривая перспективу дальнейшего разрешения противоречий, встречающихся в практике квалификации ст. 212 УК РФ, считаем давно назревшей насущную необходимость разработки постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам о массовых беспорядках для приведения судебной практики данной категории дел к обобщению и единообразию.
Список литературы К вопросу о влиянии судебного толкования уголовного законодательства на практику применения норм о массовых беспорядках в Российской Федерации
- Актуальные проблемы уголовного права / под ред. О.С. Капинус; рук. авт. кол. К.В. Ображиев. - М., 2015.
- Жих Ю.И. Уголовная ответственность за групповое хулиганство: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. / Ю.И. Жих - Волгоград: Волгоградский юридический институт, 1998.
- Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, концептуальные основы уголовно-правовой регламентации: дис … докт. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Никуленко - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2019.
- Осокин, Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против общественной нравственности: дис. … докт. юрид. наук / Р.Б. Осокин. - М., 2014.
- Субачев, А.К. Институт соучастия в преступлении и его отражение в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук / А.К. Субачев. - Владивосток, 2019.